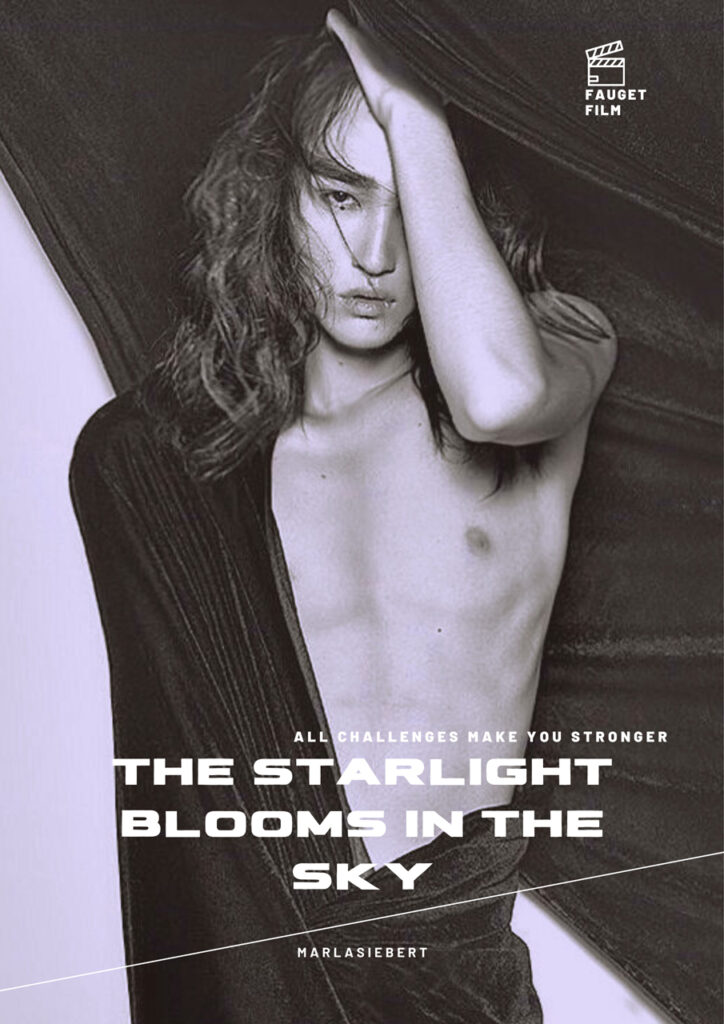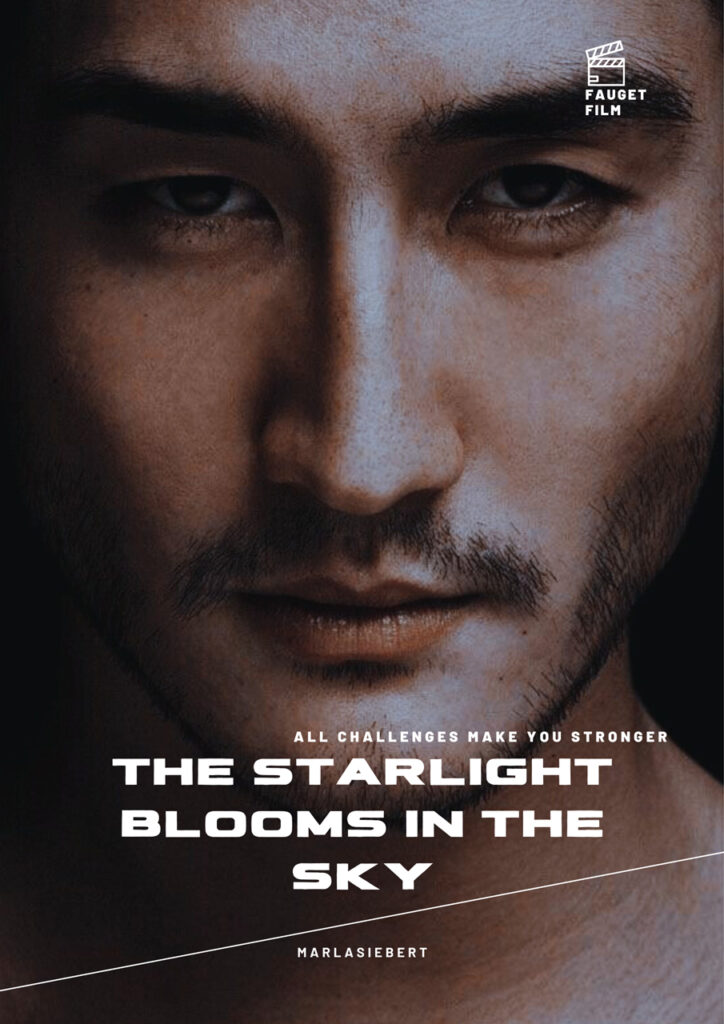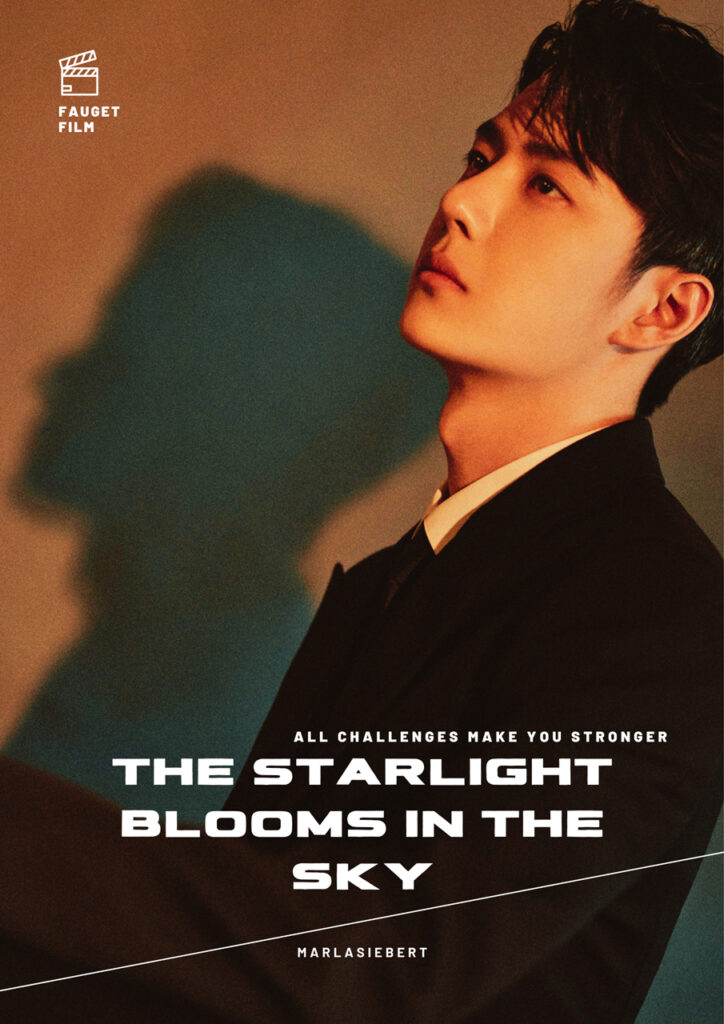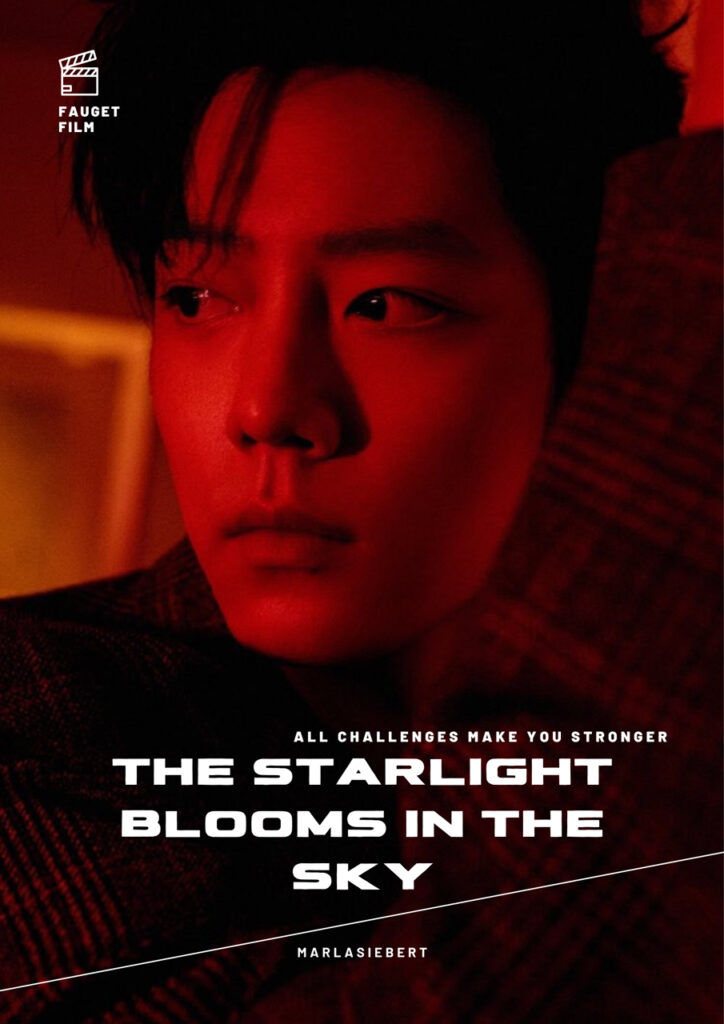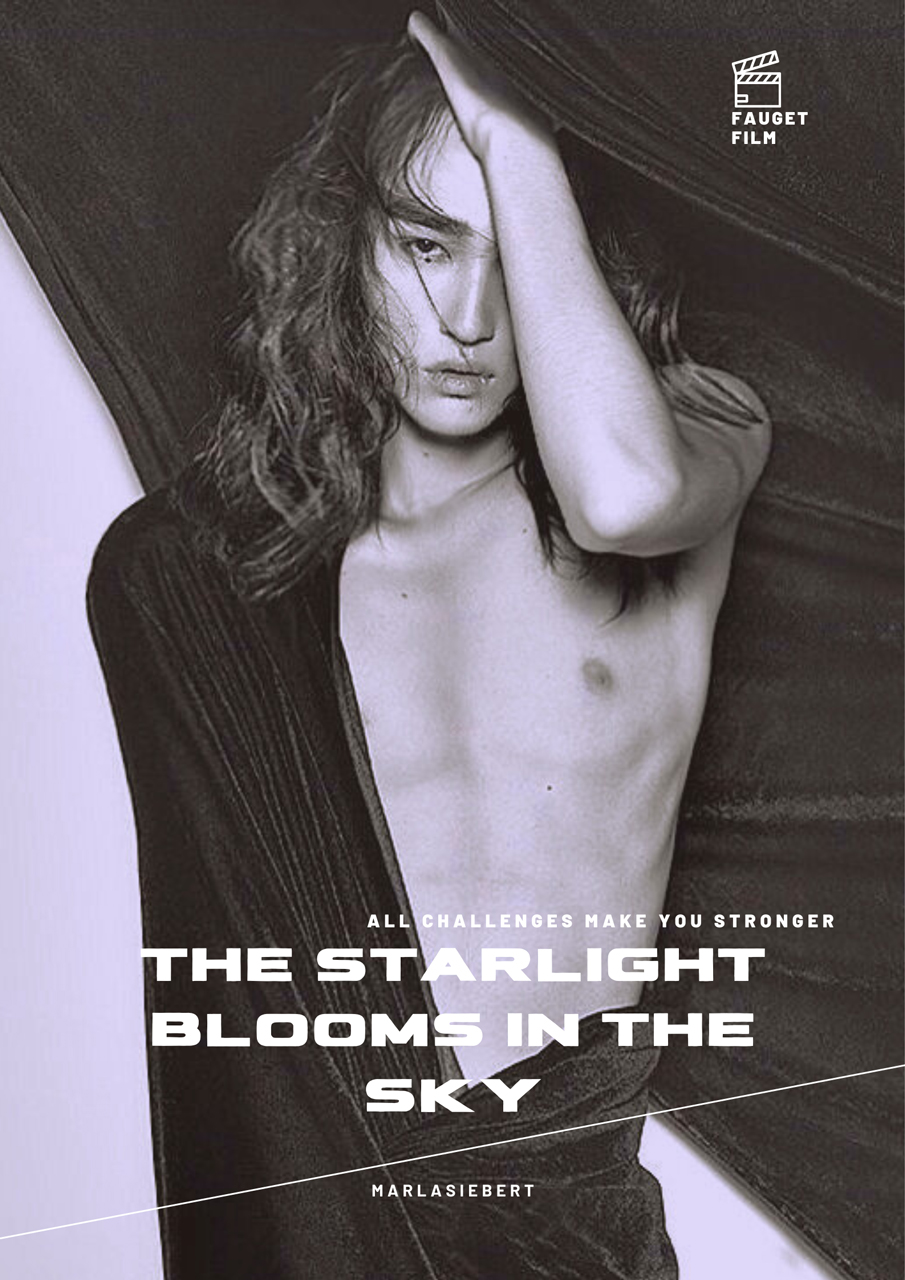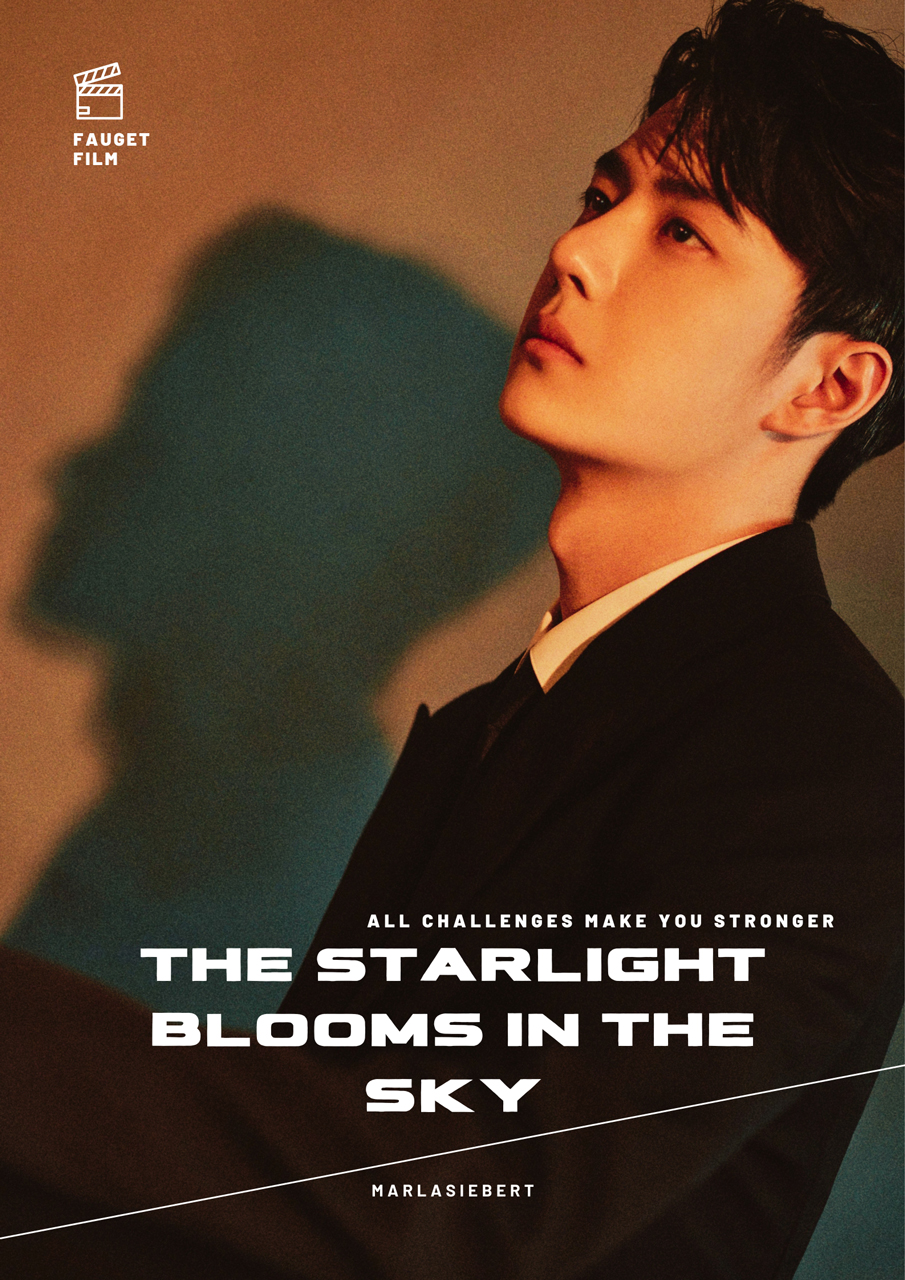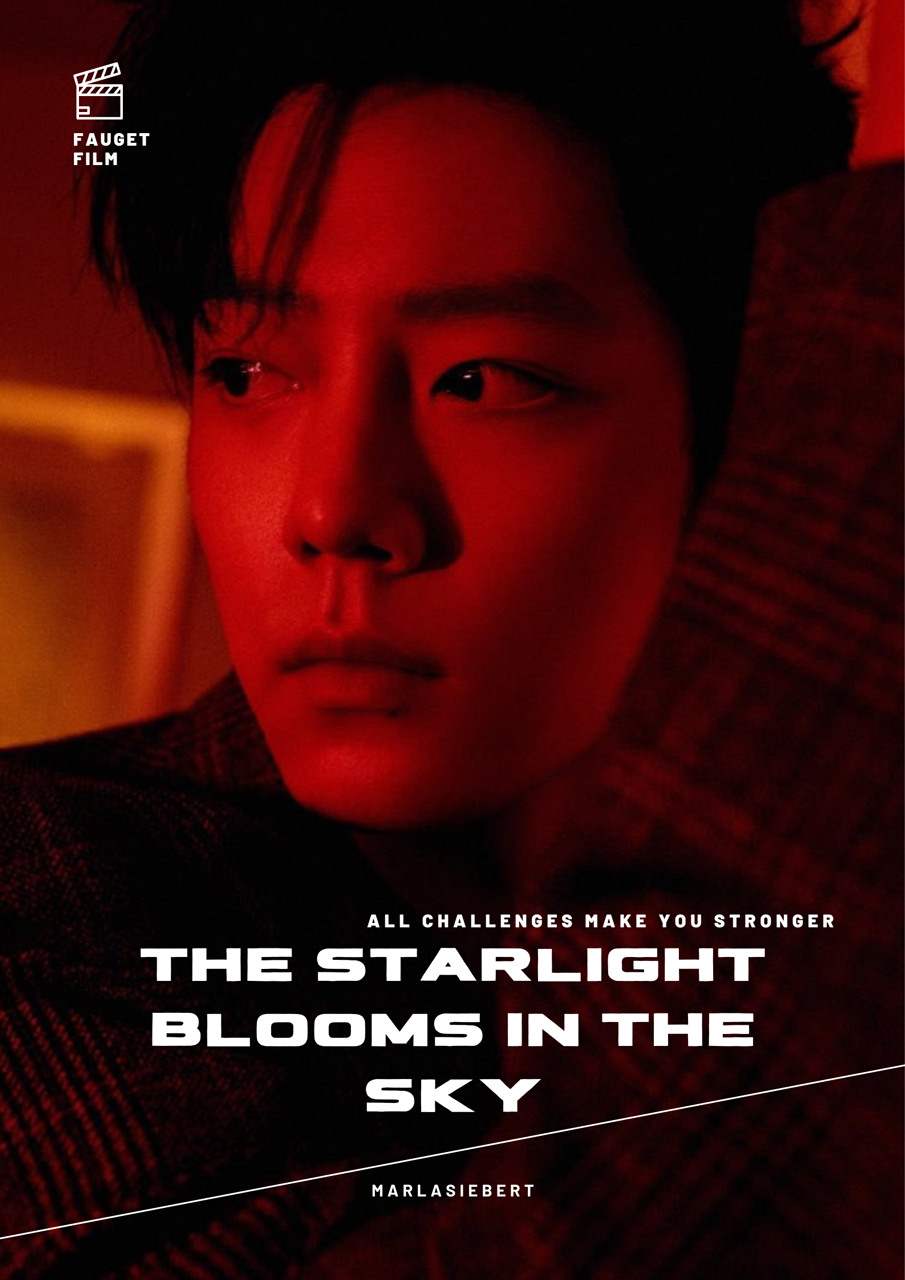В небе распускаются звёзды
Описание
Кто кого спас — ещё вопрос.
Если спасение вообще имело место быть.
Старый мост, глубокая ночь, тарелка лапши.
Скоро пойдет дождь.
Кто-то хотел снова чувствовать, а кто-то никогда не знал, что умеет.
Посвящение
Всем, кто продолжает меня читать.
Примечания
Я долго думал, какой будет моя сотая работа (хоть и не все они по бочжаням). Возможно это и мешало мне начать, выбора слишком много. Но эта история пишется сама и не имеет никаких рамок, как и чего-то сверх, она плавная и степенная, как древняя река.
По сути, есть только эти двое. И звёзды в небе.
И да, это задумывается мелодрамой, но как обычно — чёрт его знает. Кажется, совсем нет.
Upd: река становится бурной.
Подписаться на обновления и читать на зеркалах:

1. 紫微垣
х х х
I.
月满则亏,水满则溢。没有什么能长盛不衰。
Луна, прибыв, убывает; вода, заполнив емкость, перельется через край.
Ничто не длится вечно.
Чунцин, 01:24 AM,
зима, +10t
На воде было написано «смерть». Ван Ибо понимал это чётко и спокойно. Половина стоп имела опору, другая — нет. Пальцы держались за поручень, тот был позади него. Ван Ибо смотрит в лицо воды, в её тёмное, отчего-то вязкое, течение. Сколько жизней она уже приняла в своё лоно?
На протяжении всего пути, за все столетия существования. Глотала бездумно, не считая это ни жертвой, ни подношением. Люди сами так решали, её дело — быть. Нести воды, нести саму себя, гордо и упорно; пробиваться сквозь преграды, строить новые пути, терпеть загрязнения, выбросы химикатов и мазута, затапливать в порыве гнева ненавистную сушу.
Не дать себя обуздать. Не стать ею.
Ветер пропах илом, влажной землей и колким холодом, а ещё — цементом. Кажется, тот крошится под подошвой, когда Ибо чуть сдвигает правую ногу. Этот шорох едва заметен, его практически не слышно на фоне белого шума проезжающих мимо машин. Кажется, ветер будто бы подбивает Ван Ибо под пятки, щекочет по пояснице, ерошит волосы и пытается «закончить это дело побыстрее». Возможно, у ветра ещё много дел в этот поздний вечер. Ван Ибо продолжает смотреть на степенное течение реки, угадывая его по янтарным бликам, отсветам от фонарей и софитов моста. Тот один из самых старых, а значит — самых удобных. Вопреки граффити о ценности жизни.
Говорили, что скоро здесь должны установить бесплатный таксофон, Ибо читал что-то такое.
Правда, для этого стоит признать неутешительную статистику. Ван Ибо не пришёл сюда для того, чтобы стать её частью. Пальцы онемели то ли от напряжения, то ли от холода. Мысли в голове спокойны, даже рассудительны. Если прыжок на асфальт — это верная смерть, то при попытке кинуться с моста, есть вероятность выжить. Слабая такая. Вопрос, что вообще хуже при таком раскладе. Лучше уж умереть, наверное. Ибо не уверен. Ничего не происходит. В этом и проблема. Ибо не слышит, как останавливается машина, не слышит шагов и даже стука по поручню.
Только когда голос оказывается совсем близко, он оборачивается.
— Эй… эй. Привет. Я… Ты не хочешь… поесть?
Человек с той стороны, держится за поручень мертвой хваткой, словно сам стоит рядом, а не на твердом бетоне. Ибо медлит с тем, чтобы двигаться. Шее неприятно, когда она так вывернута. Но необходимо быть плавным. Он продолжает смотреть. Мужчина выглядит растеряно, к губам прилипло подобие улыбки. Но глаза — манковые, темные, в них такие же блики, как и по воде. Эти глаза знают больше, чем сам мужчина догадывается, знают что-то такое, что заставило остановить машину, выйти из неё и оказаться здесь, подставив свое тело ветру и, не страшась, смотреть.
Взгляд подманивает, вместе с тем — он лжёт. Ибо пытается представить, что случится, если он поведётся. Ещё один шаг. Мужчина всё ближе. Теперь опирается о перила чуть ли не локтями, наклонившись вперед, ведет языком по губам, подбирая слова, отводит взгляд всего на секунду, затем снова улыбается. Голос становится мягче, вкрадчивее. Так должны были бы объяснять, как опасно стоять на краю пропасти, как важно жить, как важно быть. Но вместо этого…
— У меня… в машине большая порция лапши. Еле успел купить до закрытия. Не знаю, как ты относишься к ланьчжоуской лапше, но… там очень нежная телятина, я клянусь. Прозрачный бульон, белая редька, ну, если не нравится, можно вытащить… кориандр, кинза. Лапша, собственно… всё, как надо. Такая жёлтая, знаешь? Я её солнечной называю. Насыщенная. Кучу соусов с собой дали, если захочется подкорректировать вкус, но это вряд ли. Я… был бы рад есть не один. Поешь со мной?
Последнее звучит настолько вымученно и смущенно, словно они недавно знакомы, стоят посередине улицы, и мужчине очень не хочется прощаться. Ван Ибо думает и удивляется мысли: а что с ним будет, с этим мужчиной, если он оступится и всё-таки упадёт? Должно быть всё равно. Ему должно быть всё равно, этому мужчине тоже — должно быть всё равно. Какая разница?
Но что-то во взгляде, всё в тех же глазах, не отпускает, привязав к себе за секунду. Ибо говорит слишком тихо, чтобы его можно было услышать. Рот не слушается, оказалось, что ветер не терял время даром — воздух вокруг бурлил, холодный и колкий, проникал в кожу глубже, заставляя неметь всё до самых костей. Голос сипнет, но если очень постараться, можно понять: «Не помогай мне». Эту фразу можно трактовать двояко. Незнакомец невольно подаётся ближе, словно в порыве, вопреки здравому смыслу и законам физики, наивно полагая, что если что — сможет выдернуть Ван Ибо из схватки с силой притяжения. Но Ибо имел в виду не это. Чтобы перелезть обратно — нужно двигаться плавно и осторожно. Чья-то помощь, неловкое движение, слишком резкое, может решить его судьбу. Нельзя паниковать, как и всё время до этого. Нужно бояться, это верно, но не паниковать. Хотел бы Ван Ибо этого не знать, но тогда бы он был мёртв уже очень давно. Ноги — деревянные, руки — отказываются гнуться. Ибо переламывает себя, не соглашается с уговорами ветра, те стали лишь сильнее и яростнее. Ледяные пассы забираются под ветровку, хлещут плетьми по лицу. Ван Ибо оказывается по ту сторону перил, за которые уже нет нужды держаться. Он не успевает поднять взгляд на мужчину, и тут же оказывается укутан в его пальто. Черное, слишком длинное в рукавах, но считай по росту. Плечи Ван Ибо сжимают, тепло отдает по телу болью, мужчина заглядывает в его глаза. Взгляд стал строже. Мужчина ничего не говорит, ведёт за плечи к машине и открывает перед Ван Ибо дверцу переднего пассажирского сидения. Ноги все ещё плохо гнутся, он садится, морщась. Сколько он пробыл на мосту? Полчаса? Час? Весь вечер?
В салоне машины ещё теплее. Пахнет кедром, кожей и чем-то вишневым. Дверца снова хлопает. Мужчина садится за руль и выжидает, когда можно будет встроиться в полосу.
Ибо не смотрит на него, он смотрит в окно.
Янцзы растеклась пятном темнее неба, ей нет никакого дела до того, что происходит на мосту. Тот заканчивается через полторы минуты. Ибо переводит взгляд от полосы начинающихся высоток, и смотрит только вперёд, плотнее кутаясь в чужое пальто.
х х х
Чунцин — это про постоянное преодоление. Родившись в брюхе этого извилистого гиганта, ты научен карабкаться вверх, спускаться вниз, падать и подниматься, раз за разом. Буквально и метафорично. Чунцин воспитывает собой, своей средой и законами, культивирует гибкость и готовность к любым вызовам, ведь никогда не знаешь, что ждёт тебя за углом — крутой подъем или очередной спуск? А может и вовсе — железная дверь в переулок. Мегаполис, растущий вширь и ввысь этажами не только домов, но и целых кварталов. Машина иногда кажется в нём бесполезной прихотью — доезжая до определенного дистрикта, легче бросить тачку на какой-то из парковок и пройтись до дома по лабиринту лестниц и узких проходов, чем объезжать всё по широкому кругу.
А потом всё равно идти пешком. Этим они сейчас и заняты. Сяо Чжань идёт чуть впереди, запрещая себе оборачиваться на парнишку. Тому от силы лет восемнадцать и есть. Чжань не считал себя таким уж зрелым или взрослым, по правде, но сейчас ощущал весь груз ответственности и как-то враз «постарел». В каком-то благородном смысле.
Почему он не проехал мимо? Странный вопрос. Корректнее — почему все остальные проезжали?
В белом пакете, закутанная в три слоя фольги по доброте душевной, ждёт своего часа глубокая пиала лапши. В планах было молча сожрать её всю, чтобы аж до боли в желудке, а потом отключиться, проспать как можно дольше бесцветным сном. Желательно — половину выходного.
Это как запас на грядущую рабочую неделю. Впереди ещё один лестничный пролёт. Затем узкий проход вдоль ряда дверей, потом ещё выше и ещё. Там, где таких дверей — всего три на одну стену. Сяо Чжань мог позволить себе приличный лофт в довольно хорошем районе. Он всё-таки оборачивается, что-то внутри него тоскливо ноет, он бы мог подумать на голод, но тот не жжётся ближе к глотке, а оседает кислотой в желудке. Парнишка поднимает на него настороженный взгляд. Похожий на дикого зверька со взъерошенной, жесткой платиной волос, корни которых уже прилично отросли. Кутается в пальто так, будто бы холод с моста все ещё плещется по телу. Чжань забывает, что хотел сказать, замедляется, затем мотает головой и бросает «почти пришли». Парень к себе домой не просился, если тот дом вообще был; шел за ним, словно на поводке, не проронил ни слова, но взгляд был весьма трезвым и осмысленным. Если он наркоман — Чжань поймёт по телу, когда пальто и ветровку придётся скинуть. Так он себе говорил, да и что такого страшного на самом деле. Самое страшное уже позади. Ему так казалось. Всё можно решить, пока жив.
Если мёртв — уже ничего не поделаешь. Это не какая-то мудрость, а простая логика. Так ведь? Иногда Сяо Чжань был на удивление простым, при всей своей сложности. В данный момент главное не задаваться вопросом — а что он вообще делает? Он не знает «что», он просто знает, что поступает правильно. Кажется, это единственное чувство в нём, достойное доверия. Чжань останавливается у черной двери, на ней всё ещё прилеплено пару оберегов, некогда красная бумага стала бурой, а иероглифы уступили серому на тон. Сначала приложить карту к электронному замку, затем провернуть обычный ключ в замочной скважине.
Чжань оборачивается опять и кивает, приглашая гостя внутрь.
— Тебе нужно завести кота. Или кошку.
Это первое, что он говорит, спустя долгое молчание. Оно почему-то не напрягало. Ни тогда, когда Чжань грел им лапшу и разливал по тарелкам (фольга не помогла), ни тогда, когда гость наконец вылез из пальто и стянул с себя ветровку, оказавшись в белой футболке, на которой потёками застыла кровь. Чжань бегло осмотрел его руки, уверившись, что там нет следов от инъекции и сама кровь — не его, нигде не видно ран. С одной стороны — хорошо же.
С другой — чья она тогда? И да, он так и не спросил его имя.
Чжань как раз вручает ему одну из своих футболок, серую и растянутую, ту, в которой он обычно ходит в зал, если находит силы. Он спрашивает: «Как тебя зовут?». Парниша принимает футболку заторможенно, затем тут же, не отходя ни на шаг, стягивает с себя грязную тряпку, кидает на пол и натягивает предложенное — футболка немного мала в плечах. Чжань успевает подметить, что тот хоть худощав, но вовсе не дистрофик. Жилистый и даже в меру подкаченный. С каждой минутой этот парень всё меньше похож на человека, который собрался прыгать с моста. Хоть, Чжань прежде таких не встречал, откуда ему знать, это лишь субъективное мнение. Или собственное желание.
— Меня зовут… Ванцзе. А тебя?
— Сяо Чжань.
Ванцзе выдает подобие улыбки и садится за круглый стол. Едят они тоже молча. И всё это должно было быть странным, но всё ещё не было. Чжаню не хочется нарушать эту тишину. Она не такая, как обычно в этом лофте. Тут хотя бы дышат двое. Бульон действительно прозрачен, в нём плавают куски редьки и зелень, тонкие слои телятины, плотная лапша. Ванзце ловко подцепливает ту палочками, всасывает стремительно и тут же жует, наклонившись над тарелкой. Чжань не сдерживает усмешки. Обычно его раздражает «традиционный способ поглощения пищи» — это когда шумно, с брызгами и протяжным «м-м» в усладу ушей повaра. То есть, как обычно. Но в данный момент в этом было даже что-то от умиления. И жизни, наверное. С каждым новым глотком бульона, прожёванным мясом и втянутой лапшой, парнишка будто бы оживал чуть больше. Чжань тем временем вынимал исключительно куски мяса, обмакивал их в один из сладко-острых соусов, жевал неспеша. Покосившись на футболку, которую никто не удосужился поднять с пола, он снова переводит взгляд на гостя. Ни на пальцах, ни где-то ещё, крови нет. Только на футболке.
— Я должен спросить…
— Я не собирался прыгать.
Чжань запинается и кивает, выдержав долгий взгляд. Ванцзе снова поглощён едой. Чжань решает, что кровь — не его дело. Как и вообще всё, что касается человека напротив. Правда, это идёт вразрез с его действиями. Он подкладывает в чужую тарелку ещё кинзы, заметив, что та уже стремительно исчезла из бульона. Ванцзе наблюдает за этим, затем кивает. Чжань подцепливает лапшу палочками и подносит ко рту, когда гость неожиданно продолжает:
— Я просто хотел что-то почувствовать.
Чжань не доносит лапшу до рта, всё отправляется обратно в тарелку, плавно и не глядя. Он уточняет тише: «У тебя получилось?». Ванцзе сначала качает головой, затем как-то странно усмехается, уголком рта, продолжая собирать кинзу палочками. Добавляет также тише:
— Когда стоял там — нет. Ничего. Абсолютно. Когда ты пристал — тогда да.
«Пристал». Сяо Чжань не сдерживает короткого фырчания и даже откидывается на спинку стула. Его гость явно повеселел. Это хорошо, конечно, тот явно не кроткий малый.
Может, Чжань вляпался во что-то совсем поганое?
— И что же ты почувствовал, Ванцзе, позволь спросить?
Тот пожимает плечами. Выедает всю кинзу, зажевывает предпоследний кусок телятины из тарелки, и только тогда говорит: «Голод, Чжань-гэгэ. Я почувствовал голод». Чжань цокает языком и кивает, снова наклонившись вперёд и занявшись лапшой. Доедают они её в вернувшейся тишине, только та стала плотнее и почему-то теплее для обоих.
«Ванцзе» жил в его квартире вот уже шесть дней. Отзывался на своё имя не сразу, если вообще отзывался. Из этого можно было сделать два вывода: либо это его особенность, либо «Ванцзе» — не его настоящее имя. У парниши не было с собой ничего. Ни документов, ни каких-то ключей, ни смартфона. Только одежда: джинсы, та самая «кровавая футболка», зеленые кеды и такая же зеленая ветровка. Ванцзе существовал, но этому не было никаких документальных подтверждений. Даже у последнего попрoшайки на рыбном рынке был свой вичат и qr-код для «пожертвований». Чжань вскользь предложил «восстановить документы», на что получил ответ: их никогда не было. Ванцзе больше ничего не добавил, снова занявшись своей новой игрушкой — Чжань купил ему смартфон. Первое, что малец с ним сделал — скачал какую-то игру. Значит, в курсе, как всё это работает? Рекорды, блин, он ставит. В том, что Сяо Чжань делал, не было ничего рационального. Может, в начале — да. Спасти жизнь, как ему казалось. Но забирать с улицы в дом? Чжань не задавал прямых вопросов, так что и не получал прямых ответов. Зато Ванцзе был на них горазд.
«Зачем ты делаешь это?». Чжань имел несколько ответов, один нелепее другого. Мне захотелось?
Ты же не против? Тебе ведь некуда идти? Я слишком проникся книгой о Ганди? Мне свойственна «токсичная добродетель»? Ты странный и я хочу понять тебя?
Что может заставить взрослого человека со стабильной работой, статусом, набором благ и чистой кредитной историей пустить в свой дом незнакомца с явно мутным прошлым?
На самом деле Сяо Чжань ответ знал, только вот он был несуразнее остальных отговорок и имел абсолютно эгоистичную природу. Ванцзе был волен уйти, не соглашаться на этот «пакт сожительства», где Чжань прописал (буквально, даже распечатал), что он помогает тому встать на ноги и до этого момента (когда Ванцзе сможет позволить себе снимать жильё или что-то вроде) тот живёт у него и… ну, помогает с уборкой и домашними делами. Когда Ванцзе прочёл это, то демонстративно обвел кухню, перетекающую в основную комнату, долгим взглядом. Единственное, что нуждалось в уборке — срач, который развел сам Ванцзе в виде кучи вещей на диване. Это Сяо Чжань заказал на таобао «базовые вещи для улицы и дома». Три белых футболки, три черных футболки, три зеленых футболки (он сделал вывод, что зеленый цвет нравился его гостю, ведь кеды и ветровка). Две пары джинсов — одни светлые, другие темные; мягкие домашние штанцы на резинке — две штуки (серые и чёрные). Носки базовых цветов. Темно-зеленые кроссовки и ещё одни туфли из мягкой кожи. Чжань брал качественные вещи, но не брендированные, хоть мог бы. Но что-то подсказывало — не стоит. Он был занят этим часть обеденного перерыва, который провёл в кофейне напротив офиса. И только когда увидел коробку и Ванцзе в этой груде вещей (кроме прочего — там была и пачка трусов, а также поясная сумка, новый рюкзак и даже зонт), он понял, что со стороны это выглядело странно и возможно даже череcчур. Но в реальности он лишь улыбнулся и кивнул Ванцзе со словами «надеюсь, тебе всё подойдёт». Конечно, тому всё подошло. Он смотрел на Чжаня снизу вверх, подпирая спиной диван. Смотрел долго, ничего не говоря, затем чуть пожал плечами и произнёс «спасибо». Ровно и спокойно. Чжань боялся, что все его действия будут восприняты как-то неправильно, но сформулировать адекватный посыл так и не мог. Единственное, на что его хватило, так это окрестить свои действия «инвестированием в будущее» за ужином и пошутить, что «когда ты станешь мультимиллиардером, ты будешь мне благодарен и обеспечишь мою старость». С точки зрения здравого рассудка — Чжань творил нечто хреновое, даже если хотел искренне помочь парню. Того нужно было отвезти, например, к хорошему психотерапевту — он ведь буквально снял его с моста, — нужно восстановить или, хорошо, создать документы. Понять точный возраст, а то вдруг он ещё и несовершеннолетний, нынешняя молодежь часто взрослеет внешне куда раньше, или Чжаню так просто кажется. Перед ним вполне может сидеть шестнадцатилетний пацан с проблемами, а его родители могут сходить с ума в поисках своего чада. Но что-то в этом Ванцзе было такое, что такие вроде логичные предположения казались смешными. Есть ещё одно: этот человек сделал что-то ужасное, ему необходимо скрываться, и это «что-то ужасное» настолько «ужасное», что он подумывал свести счёты с жизнью. Тут сразу же вспоминалось про кровь, но на четвертый день Чжань видел, как та самая кровь хлынула из носа Ванцзе. Резко. Потоком. Кратким, но мощным. На футболке (зелёной) расцвели потёки и пятна. Кровь капала на пол, кровь осталась парой капель на белой тарелке рядом с ещё горячим тостом. Ванцзе молча пошел в ванную, застирал кровь прямо на себе, умыл лицо и руки. Сел напротив. Мокрая ткань липла к телу, пока он зубочисткой вычищал остатки крови из-под ногтей. Чжань смотрел на застиранные пятна. Ему показалось, что они были почти что такими же как и на той белой ткани. Видимо, Ванцзе пережил такой же приступ хрен пойми чего, и та кровь — была его. Он нашёл где умыться и относительно привести себя в порядок. Наглухо застегнул ветровку. Шлялся так долго, а затем пошёл на мост?
А может, такое случалось много раз и та футболка уже не отстирывалась. Была его единственной. Догадки. Сплошные идиотские догадки. Чжань придумал себе, что от слишком частых и прямых вопросов, Ванцзе начнёт закрываться и это будет плохо. Он казался своенравным уличным котом, от которого не знаешь, чего ждать. Ванцзе за эти дни ещё раз с усмешкой посоветовал «Сяо-гэ» завести одного. Тот чуть было не ляпнул в ответ — так я уже.
Кровь, кровь, кровь. Ванцзе не выглядел больным. Молчаливый и настороженный взгляд Чжаня он оценил по-своему, ответил сначала «это не заразно», на что Чжань вскинул бровь и пнул его под столом, а затем продолжил «просто слабые сосуды, случается». Чжань принял это. Потом сделал поиск в интернете, уверился и принял ещё раз. На ужин в тот день был стейк из лосося. Он приготовил его сам, вычитав, какие продукты лучше есть при, ну, слабых сосудах, как ему сказали.
В холодильнике появились яблочный сок, шпинат и все виды цитрусовых понемногу.
Шёл седьмой день. Чжань вернулся с работы рано. Ванцзе был дома, как и все дни до этого.
И Чжань вдруг понял, что уже к этому привык.
Странное сожительство набирало обороты. Ван Ибо плыл по течению и иногда корректировал мелочи. Хочет этот Сяо Чжань купить ему одежду, смартфон и даже оформить его на себя («пока у тебя нет документов, так он — полностью твой»)? Чудесно. Предлагает жить с ним? Вау.
Даже не тянет его за это в постель? Дважды вау.
Не заставляет варить мет, кого-то запугивать, красть или заниматься каким-нибудь тяжелым трудом за плошку риса и паровую булку? Трижды вау. Ван Ибо не привык к такому везению.
Но принимал его без каких-то оговорок, почти что как должное. Только вот всё ещё немного вилял с темой документов, не уверенный, чем это для него обернётся. Конечно же рано или поздно какое-нибудь говнецо из этого Сяо Чжаня на него польётся, но… до этого момента можно ещё пожить. Кажется, совет и правда оказался дельным. «Езжай на юг, в Чунцин, это место куда больше всего, где ты был раньше, а значит — больше вероятности на счастливую удачу». Лучший совет за жизнь. Хоть и сказанный воняющим перебродившим тофу пьяницей, которого Ван Ибо зачем-то отбил у долбанутых подростков в подворотне. Ван Ибо подумал: «Чунцин так Чунцин». И добрался до него на попутках и фурах за две недели. Не самое приятное путешествия. Было пару деньков голода, хоть, бывали и деньки сытого желудка благодаря водилам и даже одной проститутке, которой он приглянулся своим смазливым личиком. С её слов, в ней проснулось что-то от матери, а еще Ван Ибо был похож на её покойного брата. Как тут не накормить? Сяо Чжань таких речей не толкал.
Ван Ибо никого ему не напоминал, жалости во взгляде он так и не увидел, а всё, что тот делал и правда было похоже на «инвестицию в твоё будущее, не думай, что я такой добрый». Смешно.
Этот мужчина на полном серьёзе взялся «ставить на ноги» какого-то идиота с моста.
Ему настолько нечего делать?
Нет, Ван Ибо подозревал, в чём истинная причина. Это казалось простым и очевидным, настолько, что даже не верилось. Ибо понял это, как только переступил порог квартиры. Он почувствовал. Это витало в комнатах запахом стойких духов, которые Сяо Чжань исправно наносил на себя каждое утро. Этим были пронизаны все книжные полки. Заставленные суккулентами, кристаллами и кусками гималайской соли подоконники. Это считывалось с зоны кухни, порядка в холодильнике, зубной щетки в холдере над раковиной, в гардеробе — отдельной комнате, — в стопках однотонного постельного белья. И странной коллекции керамических Спанч Бобов на самой дальней полке всё в той же гардеробной. Это было бы даже смешно, если бы не простой факт — Сяо Чжань был до странного одинок. «Странного» — потому что мужик не урод, с явно хорошей работой, умеет общаться и в принципе… хоть, он взял кого-то с улицы и ведёт себя с ним как с брошеным котярой. Возможно, Сяо Чжань — психопат? Ван Ибо как-то читал такой романчик, там описывалось, что те, чаще всего, самые обаятельные и душевные люди, которых любят на работе, отзывчивые и харизматичные, но в меру. Добрые соседи. Только вот хранят в подвалах трупы. Мимикрируют под лучшую часть общества. Ван Ибо как раз зависает на этой мысли, когда Сяо Чжань ойкает и сует палец себе в рот — обпекся о край сковородки. Чжань в принципе часто был неуклюжим. Спотыкался, выливал на себя чай, бился мизинцами ног о дверные косяки. Да, психопат, конечно… он, кажется, нечто похуже. Он добровольно одинок. Хоть, кажется, уже и нет? Ван Ибо не считает себя лучшей компанией. Он в этой квартире — явление временное. Может, этот Сяо Чжань решил попробовать, каково это? Как пробная подписка на приложение. «Если хотите продолжить, оформите доступ за пятьдесят юаней в месяц». Ван Ибо как раз смотрит на эту надпись, та выплыла окошком поверх гоночной трассы. Он откладывает смартфон и подходит к Чжаню. Тот продолжает мешать палочками в воке куриное мясо вместе с приправами и зеленью, пока указательный палец все ещё в его рту. Ибо тянет его за руку, заставляя вытащить палец.
— Что у тебя… так же только больнее. Тут пузырь.
Пузырь и правда был. Мелкий, но от того не менее болезненный. Чжань морщится и кивает, молча вручая Ван Ибо палочки и уходит в ванную. Тот принимается мешать ими курицу, не видя в этом действии особого смысла. Та, кажется, уже и готова. Ибо уменьшает интенсивность плиты, та пищит, вторя его движениям. В ванной звучит грохот. Затем не мат, как можно было бы ожидать, а тяжелый вздох. Ибо выключает плиту, оставляя курицу доходить так, и идёт туда. Сяо Чжань каким-то образом снёс половину содержимого полки за зеркалом. Ещё не открытые тюбики зубной пасты, лишенные упаковки, бритва Braun, пластмассовая коробочка с ватными дисками, настойка какой-то травы в тёмном стекле. Хорошо, что не разбилась. Ибо тянется за мазью от ожогов, которая, в отличие от остального, не упала. Молча раскручивает и наносит прозрачный гель на палец Сяо Чжаня. Движения короткие и бережные.
Тот наблюдает за этим действием, а затем тихо спрашивает:
— Ты… мы не выходили, я не знаю, выходишь ли ты сам, когда я на работе… но, пойдешь со мной завтра… на корпоратив? Я подумал, тебе было бы интересно…
Ван Ибо хмыкает. Этот человек продолжает его удивлять. Хочется спросить либо «что ты творишь?», либо банальное «да зачем?». Ибо выбирает нечто среднее и уточняет, закручивая тюбик:
— В качестве кого ты меня туда тащить собрался?
Сяо Чжань с ответом не теряется, будто бы заранее готовил (а наверняка так и есть), и говорит громче и увереннее:
— Протеже. Выписал тебя из Тайваня. Твой говор достаточно северный, но… когда говоришь «Тайвань», многие перестают задавать вопросы. Они этим всё для себя объясняют.
Ван Ибо глубокомысленно мычит, ставя тюбик на место, затем принимается возвращать на полку остальные «жертвы гравитации». Чжань вытягивает руку с ранением, затем поднимает её и оказывается за спиной Ибо. Тот смотрит на мужчину через отражение, спрашивает снова:
— Ты никогда не упоминал, кем ты работаешь.
Чжань чуть пожимает плечами, оказывается на ещё один шаг ближе, тянется за коробкой с ватными дисками. Ибо чувствует его запах, — что-то от сладкого персика, что-то от жасмина и горького рома, — Ибо чувствует его тепло. То, кажется, перетекло в него, заставляя осесть тяжестью внизу живота. Это, наверное, плохо. Ван Ибо на это плевать. Сяо Чжань уже отступил, занят корявой попыткой зачем-то разделить один ватный диск на два более тонких. Обматывает одной частью свой несчастный палец, другая падает на пол. Чжань ставит коробочку на место и выдыхает:
— Архитектор.
Ван Ибо всё ещё смотрит на него через отражение. Можно сказать, что он нихрена в этом не понимает. Можно отказаться, ему явно не ставят ультиматум или не отдают приказ. Его просят. Это просьба. В этом дело. Именно поэтому Ван Ибо не может отказаться. Идиотская затея, но он почему-то правда не может. Ибо привычно пожимает плечами, затем кивает, мол, как скажешь.
Сяо Чжань улыбается за его спиной и выходит из ванной.
Ван Ибо думает, что хочет подстричься и перекрасить волосы.
Ему отчего-то кажется, что начался совсем другой этап жизни.
И ему в нём не хочется оставаться прежним.
2. 太微垣
х х х
II.
风花雪月
ветер, цветы, снег и луна
Чунцин,
зима, +14t
Небо было застлано сталью, от края до края. Птицы летали низко и юрко, не пытаясь пробиться ввысь. Казалось, что небо сейчас — грязный титановый лист. Вечер степенно накатывал волной тумана, скрывая нижние этажи Чунцина, обволакивая собой каждую высотку, стелясь низко по подворотням и узким проходам, закрашивая зелень в грязные, болотные тона. Ван Ибо ерошил полотенцем волосы и смотрел в окно. Город понемногу добавлял в себя свет, оттенки желтого и оранжевого подмигивали теплом оживших зданий. Белое полотенце впитывало воду вместе с излишком краски — становилось серым. Надо было тщательнее вымыть, наверное. Но и так сойдет. Ибо потратил ночь на то, чтобы шапочно изучить мир архитектуры. Войти в роль. Решить для себя, что ему нравится, а что — нет, составить мнение о рынке недвижимости Китая, и о его решениях, понять, на каких архитекторов он, как «протеже», равняется. Совершенно искренне, он пришел к выводу, что это Заха Хадид и… Сяо Чжань. Наверное, дело в деконструктивизме, — визитной карточке обоих, — который пришелся Ван Ибо по душе. Этот стиль ещё называли «бунтарским», а на деле — это просто архитектура будущего. Невозможная без этого «будущего» — вся практическая часть воплощения таких зданий в реальность строилась на прорыве в аэрокосмической отрасли. Программа для обеспечения проектирования, новые материалы и новые технологии, недоступные ранее, позволяли создать здания, которые, казалось, могут существовать только в диких снах. Ван Ибо поймал себя на мысли, что архитекторы наиболее явно меняют реальность, более того, заставляют людей жить в пространствах своих фантазий. От этого веяло какой-то особой властью. Ван Ибо также выбрал университет, который «заканчивал» (Tunghai University), подумал над своей мнимой фамилией (Сяо Чжань же не мог представлять его одним «Ванцзе»), и в очередной раз задался вопросом — зачем это? Неубедительная официальная версия гласила: Сяо Чжань хочет взглянуть на него в обществе, показать, чем занимается, ведь вдруг Ванцзе захочется найти себя в чем-то таком, он поможет, ведь это единственная отрасль, где у него есть крепкие связи. Как всегда, очень излишне и очень благородно. Может, этот Сяо Чжань когда-то случайно сбил парнишку похожего на Ибо и теперь всё вот это — результат его чувства вины? Ибо развлекался подобными абсурдными и банальными сценариями в голове, которые крутились, словно бесконечные фильмы, один интереснее другого. Одно он знал точно — никто и ничего не делает просто так, для Чжаня в этой ситуации тоже существует какая-то выгода. И это правильно. Взаимовыгодная сделка, адекватно и просто, Ибо было бы спокойнее, знай он, в чём дело на самом деле. Но Сяо Чжань гнул своё и даже слегка возмущался, что очень смешило Ибо. Он дразнил его уже не ради правды, а ради шумных вздохов, того, как тот прищуривался и чуть было не закатывал глаза. «Тебе так сложно поверить, что в этом нет подвоха?». Это было сказано в порыве, и Ибо увидел, как мужчина тут же жалеет об этих словах. Наверное, тот мысленно сам себе ответил «конечно же ему сложно, дурак, у него жизнь — явно не сахар!». Ибо молчал, наблюдая, что же будет дальше. Коварные муки совести легли на лицо Сяо Чжаня тенью, он поджал губы, а затем сказал «я заметил, что не даю тебе выбора, когда…ну, с одеждой и вообще, так что, выберешь сам костюм на вечер?». Как щедро. Ван Ибо это не про костюм, а про возможность выбрать. Всё это случилось за поздним завтраком, затем архитектор укатил по делам и обещал заехать за ним к восьми. Чжань дал ему «свободу выбора», но также он дал ссылку на сайт для заказа и настроил там фильтры. Они не касались только цен, а все остальное — фасон, цвет, размер, — Чжань выбрал по несколько вариантов. Дописал «в идеале надо бы с примеркой, но на это времени уже нет, возьмешь что-то из моих галстуков и запонок, доставка у них — сорок минут, и не выбирай арендовать, именно купить, пусть будет». Ван Ибо растянулся на диване, оставив полотенце на шее, пролистал их чат. Ему пришлось шляться по ближайшим маркетам, чтобы найти краску для волос, которая бы его устроила, потом вся эта возня, зачем-то решил еще и кончики подрезать маникюрными ножницами. Костюм он так и не заказал, пора заняться. Смотря со стороны, можно прийти к выводу, что раскладом сил в этом общении было: папочка и его sugar baby. Очень такой немногословный шугар бейби с любовью к дурацким стикерам. Печатать он не любил, а оставлять в сети слепок своего голоса — много чести, вне его политики. Ибо постарался понять, раздражает ли его это? Такой формат общения?
Должно, ведь daddy в таком смысле он себе никогда не искал. Но почему-то было комфортно.
Нет, не так. Было интересно.
Пришло ещё одно сообщение, ставшее автоматически прочитанным: «Будет время, подумай про кровать, этот диван всё-таки для тебя маловат». Ван Ибо слегка прищурился. Отправил стикер с ниндзя-хомячком, который показывал большой палец. Кровать. Одна уже в этом лофте есть, королевского размера, на которой Сяо Чжань спит ровно посередине. Диван и вправду был не верхом удобства, но на памяти тела Ван Ибо — самым лучшим местом для ночлега. Кровать.
Куда и как он собирался её поставить? Да, квартира просторная, но она явно просчитана в каждом сантиметре. Да и… он же тут временно.
Ещё одно сообщение.
XZ: Я подумал, всё равно не работаю в своем кабинете особо, можно пока отдать его тебе, там для кровати есть место.
Ван Ибо хмурится. Он жил в этом лофте вот уже неделю, но ни в каком кабинете никогда не был.
WYB: О чем речь?
XZ: Дверь в конце коридора, когда заходишь, он справа начинается, если не идти как обычно. Это не кладовка, там лестница. Зайди, обдумай. Своя комната — это важно.
Ван Ибо выворачивает шею, чтобы глянуть на входную дверь и «аппендикс» стены коридора, который выступал немного вперед. На этой стене была прибита черная полка, заставленная очередным набором книг вместе с глубокой пиалой, полной безделушек, визиток и почему-то конфет в пёстрых обёртках. Ван Ибо набирает «окей».
Но прежде чем идти на экскурсию, он всё-таки выберет костюм. Игнорируя все фильтры, Ван Ибо переходит в категорию «унисекс», затем «брючный костюм», листает три страницы, выбирает строгую классику (бутылочный цвет, узкие брюки, чёрная рубашка, пиджак-френч, словно дань моде Шанхая в двадцатых), переходит в категорию «аксессуары». Запонки? Чушь. Золотые, тонкие и витиеватые цепи от Шанель поверх? В самый раз. «Заказать». «Оформить». «Внести оплату». Готово. Если с обычной одеждой Сяо Чжань справлялся хорошо и на глаз, то в таких вещах явно искушен не был. Если посмотреть на его гардероб, тот делился на две категории: классические костюмы и бесконечное количество толстовок, футболок, водoлазок и джинсов. Всё качественное и брендовое, чаще всего черное, ну и… скучное. Ван Ибо, возможно, это исправит. Странная мысль, глупая мысль, тягучая мысль. Тянет вниз, по спирали, уводя за собой. После неё ничего не следует.
Ван Ибо забирает сон. Ван Ибо забирает Ма.
Злые языки утверждали: Сяо Бай и Сяо Чжань — родственники. Это единственное рациональное объяснение тому, что господин Сяо никак не реагирует ни на внешний вид секретаря (ничего совсем уж из ряда вон, но накрашенные ногти, и то дреды, то косички, то наоборот — розовое облачко на месте волос, для помощника главы архитектурного бюро как-то несерьёзно и слишком эпатажно), ни на то, что тот постоянно жрёт на рабочем месте. Нет, этим грешат в офисе все, но Сяо Бай находился на каком-то ином уровне жора. Прямо сейчас, тщательно изучая очередной контракт на экране, Сяо Бай усердно жевал булку с мясной начинкой. Нежное, паровое тесто, достаточно плотное для того, чтобы удерживать жаренные в кунжутном масле кусочки говядины и зеленушки со специями, раз за разом становилось жертвой белых, цепких зубок Бая. Он смог съесть таких пять штук в один присест, и только в конце запить стаканом тайского молочного чая, который стоял тут же, рядом с клавиатурой. Скорее всего злые языки были бы менее злыми, если бы при всем при этом Сяо Бай выглядел жирным. Но эта сволочь, эта стервозная и наглая рожа, была худой, как жердь бамбука. Пах он, к слову, тоже так — свежо, легко и ненавязчиво, при этом чувствовалось, что дорого. Сяо Чжань одаривал секретаря красными конвертами и подарками чаще других сотрудников, на каждый праздник и по каждому поводу. Всё те же злые языки не уставали плести домыслы и слухи. То Сяо Бай — внебрачный сын (и когда это тогда Сяо-гэ его «заимел», в четыре года?! Идиоты), то младший брат, то… вообще, знаете, мальчик для снятия стресса. Люди пытались найти объяснения такой благосклонности шефа, не веря в очевидное. Сяо Бай — охренительно хороший секретарь. Он может найти всё, что угодно и когда угодно, знает всех, кого нужно (и не очень), в курсе событий мирового значения, и особенно тщательно — архитектурного. Может накопать компромат на любого, и при этом скрыть компромат на босса (хоть в этом плане Сяо Чжань был самым скучным боссом на свете, если, конечно же, не считать скелеты в шкафу из прошлого, но те заперты надёжно и не предвещают беды). Сяо Бай не уставал, Сяо Бай любил свою работу, и Сяо Бай обожал деньги, но только те, что текли в его руки справедливо и добровольно. Ну и, конечно же, самым главным плюсом было то, что босс (хвала ему и честь) никогда и никого не заставлял быть кем-то другим и чему-то соответстовать. Остальные просто не пробовали. Сяо Бай сканирует последний абзац договора особенно тщательно, пролистывает документ на самый верх, дарит ему новое имя «проверено, Хиккельс и Джайз, ОАЭ» и отправляет в папку «годные сделки, декабрь». Сяо Бай тянется за стаканом с молочным чаем, удовлетворенно подмечая, какой всё-таки удачный маникюр он сделал (цвет — чайная роза, на каждом ноготке по стразику ровно посередине у кутикулы, сама невинность и элегантность), секретарь делает первый глоток синхронно с тем как двери разъезжаются и впускают задумчивого шефа. Тот определенно странный в последнюю неделю, и Бай лишь ждёт того момента, когда господин Сяо приоткроет для него завесу тайны.
— Доброе утро, шеф. Вы сегодня не так рано, как обычно. Всё в порядке?
Сяо Чжань пялится в телефон, продолжая идти, упирается в стол секретаря, дописывая что-то в сообщениях и только потом поднимает голову и слегка улыбается. Сяо Бай чуть прищуривается, склонив голову набок. Вид шефа собранный, продуманный, это не наспех выбранное шмотье, но сам он — рассеяный. Больше обычного. Это не та милая и близорукая задумчивость, когда босс весь в новом проекте, питается одним кофе и чаем, и бесконечно что-то правит в своих программах.
Это что-то совсем другое.
Если бы Сяо Бай не знал босса, он бы подумал…
— Доброе утро, секретарь Бай. М-м. С корпоративом всё в порядке? Никаких форс-мажоров?
Секретарь недоверчиво вскидывает брови. Шефа никогда не интересовали эти вечеринки, он просто давал на них денег, присутствовал первые полчаса, а затем уходил, чтобы «никого не напрягать» — но на деле, он просто не переносил все эти сборища. Не потому что не любит своих людей, а просто — не его формат. Уже и забылось, что когда-то было иначе. С чего вдруг он этим интересуется? Бай кивает, расплываясь в улыбке, заправляет прядку волос за ухо (это привычка, но злые языки утвреждают, что кокетство), говорит, что всё под контролем. Японский ресторан, выкупленная для них терраса с видом на Янцзы, бумажные фонарики для пуска исполнения желаний со смотровой площадки южной башни комплекса, список идиотских конкурсов. Сяо Чжань кивает, затем отводит взгляд. Смотрит куда-то вдаль пару секунд. Задумчивый, медленный. Черный пиджак, черная водолазка, мягкие брюки из такой же темной, тонкой шерсти, броги. Тонкая оправа очков. Акцент — наручные часы, массивные и платиновые. Неизменный кейс под крокодилью кожу, оттенка темнеющей ржавчины, Gucci. Кто-то считал, что это обычный стиль для дизайнера и архитектора, ведь когда листаете журналы или натыкаетесь на интервью, редко кто из людей подобных профессий, вопреки собственным творениям, выглядит броско. Большинство рано или поздно приходят к чёрному и всем его оттенкам, цвету плотному и цвету, который поглощает свет. Мало кто знает, что Чжань пришёл к этому вовсе не постепенно и совсем по другим причинам. Это как если бы он постоянно ходил в белом. Но человек, по которому тот хранит траур, к культуре Китая не принадлежал. В его культуре чёрный — цвет скорби. И к этой скорби Сяо Чжань прикипел. Нет, иногда в гамме мелькали серые тона, некоторый спектр цвета, но всегда приглушенного и тёмного вида. Словно все цвета в мире Сяо Чжаня потеряли яркость, оглушенные чем-то массивным и давящим. Бай знал шефа до всего.
И даже в красной клетчатой рубашке с футболкой со Спанч Бобом под.
Небо, как же давно всё это было…
— Я… буду не один сегодня. Легенда, которую всем объявишь, — это протеже из Тайваня.
Сяо Бай глупо моргает пару раз и с сомнением тянет «протеже?». Сяо Чжань чуть усмехается и кивает, уже отходя от стола по направлению к своему кабинету, кидает:
— Протеже! Хань Ванцзе. Тебе понравится.
Бай даже чуть привстает с кресла, чуть не опрокинув остатки молочного чая, когда спрашивает вдогонку:
— А на самом деле?! Эй!
— Поговорим потом! Полно дел! Скинь мне лучшие сделки этого месяца!
Сяо Бай плюхается на место. Раздумывает пару секунд. Затем посылает письмо боссу с прикреплёнными контрактами и заметками по каждому из них. И только потом открывает байду, чтобы забить в него «Хань Ванцзе». Спустя пятнадцать минут интенсивного ресёрча, Бай не находит ничего стоящего. Это распаляет любопытство ещё больше, но работа не терпит отвлечений.
У Бая ещё будет обеденный перерыв и попытка разговорить босса до вечера.
В конце концов, Сяо Бай действительно лучший секретарь. Что бы там кто ни говорил.
х х х
Находить следы присутствия другого человека в доме оказалось странным, и вместе с тем — желанным. Как низко он пал. Отдавало чем-то приятным и вместе с тем болезненным. Тоскливым. За короткий срок Чжань привык, словно и не было к чему привыкать, но в то же время осознавал изменения: ещё одна зубная щетка, носки на полу у дивана, вдвое больше использованной посуды, теперь посудомоечная машина имела смысл существования (до этого Чжань пользовался ею редко), смена местонахождения бритвы (Чжань ставил её слева на полке, а Ванцзе — справа). Вечные попытки гостя проветрить лофт, в котором Чжань по обыкновению мёрз зимой, из-за чего окна практически никогда и не открывал. Есть же кондиционер, если уж так надо, он к тому же воздух фильтрует. Но почему-то им Ванцзе не пользовался. Ему постоянно было жарко. Явно не южный парень. Семь дней — ничто, но кто-то утверждал, что именно за семь суток был создан целый мир. В этом что-то есть, наверное.
Чжань останавливается у входной двери, перекидывая кейс с одной руки в другую, и смотрит на коробку, маркированную ателье, которое он рекомендовал Ванцзе для выбора костюма.
Не забрал? Не слышал, как пришел курьер? Не дома?
Последнее отзывается легким беспокойством, Чжань клацает по электронному замку, затем проворачивает ключ. Оставляет дверь открытой, устраивая сумку на длинном столике прихожей, возвращается за коробкой и втаскивает ту внутрь. Наконец-то захлопывает дверь. Всё это — шумно, о чем Чжань жалеет, как только проходит дальше в лофт. Его гость спит. На спинке серого дивана валяется влажное на вид полотенце с темными следами от краски, Ванцзе свернут калачиком к ней носом, его шевелюра, ранее жёсткая и платиновая, стала на вид гладкой и черной. Просто глухо черной, без отлива в синий, скорее — цвета мокрого асфальта. Чжань не просил, это полностью его инициатива. Высохли волосы беспорядочно, но всё поправимо, если это будет важным. Чжань старается вести себя тише. Есть еще полчаса на дрёму, далее надо бы начать собираться. Сегодняшнее появление шефа на корпоративе все равно будет «фурором», раз он не один, но привлекать ещё больше внимание опозданием он не собирается. Чжань стягивает с себя пальто и возвращается в прихожую, чтобы повесть его в шкаф, скидывает и пиджак, но тот уже относит в гардеробную. Ступает по темному паркету к зоне кухни, где начинается плитка под мрамор, чуть скользит по ней в носках. Закатав рукава водолазки до локтей, Чжань набирает воду в чайник, сделав струю в пару раз меньше обычного — чтобы не так слышно лилось. Он переводит взгляд на диван. Лица Ванцзе не видно, Чжань задается вопросом — на сколько тот стал выглядеть ещё бледнее благодаря новому цвету волос? И странно. Он ведь мог и не признать своего гостя, учитывая такую резкую перемену. Но нет, это был Ванцзе. Та же фигура, тот же способ свернуться в позу эмбриона, вытянув одну руку, либо же спрятав их под щеку или шею. Едва слышное сопение. Приоткрытые губы. Последнее сейчас никак нельзя увидеть и Чжань моргает, слишком резко отвернувшись. Как же за эти дни он внимательно и часто смотрел на Ванцзе, пока тот спит, что в курсе таких мелких деталей? Нехорошо. Вода чуть не переливается, Чжань закрывает кран фильтра, выплескивает из чайника лишнее в раковину, и ставит тот греться. Наручные часы показывают половину восьмого. Начало «веселья» запланировано на девять, аренда же на всю ночь. Впереди два выходных. Чжань — хороший босс, а это — хороший подарок за плодотворную работу, да и праздники же. Декабрь — самый безалаберный месяц, хуже только период январь–февраль, куда чаще всего попадает новый год. Правильный новый год, не всемирный. Чжань об этом никогда не думал в таком ключе, пока ему однажды это не разграничили. Он ищет банку с чаем, сейчас нужно что-то тонизирующее, немного бодрящее, но в меру. Выбирает зеленые листья «лишань», забрасывая их в уже другой чайник — глиняный и низкий. Шорох, едва слышный стон. Чжань бросает взгляд на диван. Ванцзе перевернулся на спину, рука, согнутая в локте, скрывает лицо. Какой-то булькающий хрип, короткий, но звучный, словно задушенный рык. Ему снится явно что-то неприятное. Чжань выжидает. Может, он проснётся сам, так было бы лучше всего. Плохие сны часто выкидывают из себя хозяев. Стон превращается в тонкий скулёж, Ибо поворачивается на другой бок, рука свисает с диавана, пока другая — все еще пытается скрыть лицо. Чжань наблюдает. Вода в чайнике начинает шипеть. Ванцзе опускает руку от лица. Плохо видно, какое на нём застыло выражение. Зато он начинает что-то говорить. Не разобрать. Снова стон. Вода в чайнике от шипения переходит к бурлению. Когда кнопка щелкает, Ванцзе снова издаёт звук, сиплый и протяжный. Чжань морщится, не заметив, что всё это время комкал в руке кухонное полотенце. Бросает его на столешницу, идёт к дивану. Лицо Ванцзе кривится, словно от боли, он снова поворачивается на спину, слышится всхлип. Чжань не знал, что во сне можно плакать, а ведь казалось, что в таком разбираться должен. Он садится на пол перед диваном, сжимает плечо Ванцзе, сильнее, чем планировал. Говорит четко, не повышая голос. Он совершенно точно не знает, как нужно правильно будить людей во время кошмара. А вдруг у этого Ванцзе есть какие-то заболевания? Эпилепсия, например? Если его резко разбудить — не случится ли приступ? Откуда у Чжаня такие мысли и познания, надо меньше смотреть сериалов по ночам, а больше спать, как нормальный человек.
— Ванцзе. Ванцзе, проснись, тебе снится кошмар. Эй. Эй, ну же…
Тот становится более беспокойным. Мычит что-то бессвязное. Чжань различает «Ма» и «не надо». Ему снится мама? Чжань уже трясёт его сильнее, сжимая по обе стороны, как-то рефлекторно одна ладонь перетекает на чужую щеку.
Там едва ли есть пушок ближе к низу, сколько же тебе лет, чёрт бы тебя побрал?
— Ванцзе, пожалуйста, проснись, это сон, слышишь меня? Это сон, это…
Ванцзе резко открывает глаза, схватив Чжаня за запястье, как раз той руки, что умудрилась начать гладить его по щеке. Чжань моргает и в следующую секунду оказывается опрокинутым на спину. Теперь уже рука Ванцзе находится вовсе не там — ладонь сжала его шею. Чжань соображает туго, сильное сжатие прекратилось буквально тут же, в глаза Ванцзе вернулось сознание. Он одёрнул руку, словно ошпарился, но этого хватило, чтобы спровоцировать в Чжане желание закашляться. Сопротивляться этому трудно, так что тот прикрывает рот и бухыкает пару раз, скатившись в хрип при словах «всё в порядке». Ванцзе продолжает сидеть на его бёдрах. Кажется, Чжань чувствует тупую боль у копчика.
Надо было всё-таки стелить у дивана тот толстенный ковёр из Эмиратов, ей-богу…
— Я… прости.
Ванцзе продолжает сидеть. То ли его не смущает данная поза, то ли он всё еще в сонном коматозе. Смотрит на Чжаня сверху вниз мутным взглядом, затем трёт лицо, хмурится. Добавляет:
— Плохой сон. Я тебя перепутал.
Чжань понимает, что очки его куда-то слетели. Поворачивает голову, чтобы глянуть, куда, но предсказуемо ничего не видит. Похлопывает Ванцзе по бедрам, как бы, мягко намекая и возвращая в реальность.
— Всё хорошо. Я рад, что ты проснулся. Ты не… видишь мои очки?
Намёк с бёдрами не прокатил. Ванцзе продолжал сидеть. Все ещё в растянутой серой футболке самого Чжаня (он таскал её вопреки наличию своих собственных), в мягких домашних джоггерах серого цвета. Чжань способен сфокусировать взгляд на их верёвках, затем заставляет себя смотреть выше и, бинго, теперь уже в лицо Ванцзе. Тот ёрзает, тянется куда-то левее и вперёд. Чжань чувствует это давление, жар разморенного ото сна тела, то, как Ванцзе пахнет — его лосьон, его зубная паста, след от его же духов и дезодоранта (это всё футболка), но и что-то абсолютно чужое в этом привычном ансамбле собственных запахов. Анис? Кофе? Табак? Ванцзе курил или… какая разница, ладно. На нос Чжаня опускаются очки, Ванцзе надевает их на него сам, затем как-то криво усмехается, и, хвала Небу, наконец-то слезает с его бёдер. Чжань садится, прокашливается опять, трёт по горлу. Хорошо, что он был в водолазке, но вдруг пятна от пальцев все-таки останутся? Придётся и на вечере быть в чем-то подобном. Чжань решает не затрагивать тему сна и не распрашивать.
— Я вижу… ты заказал костюм, да? Примеришь? И волосы… тебе идёт, но было необязательно.
Ванцзе потягивается всем телом, хрипит «хотел лучше войти в роль, внешний вид в этом — дело не последнее», затем снова усмехается и пожимает плечами. Добавляет: «Чайник закипел, Сяо-гэ».
И идет к коробке. Чжань наблюдает за ним все с того же пола. Заставляет себя встать, морщится от боли ближе к пояснице. Он увидел отсюда чайник? Не мог же услышать, тогда ещё спал.
Чжань решает об этом не думать и идет к кухне. Сначала — чай.
— Пустишь за руль?
Ван Ибо отказался от верхней одежды. В Чунцине, где все стены пропитаны влагой и часто покрываются то мхом, то грибком, то плесенью, ему холодно ещё не бывало, вопреки «зиме». Сейчас — и это вечером, — плюс пятнадцать. Да, ветер может быть немного некомфортным, но они будут в машине, а затем в заведении. Так что он стоял так, наблюдая, как Чжань ходит вокруг своей хонды, зачем-то проверяя колеса. Ибо сунул руки в карманы брюк. Чжань наконец-то закончил и кивнул, мол, садись. На фразу про руль он решил не реагировать вовсе.
— Пристегнись.
— Мне лень.
Ван Ибо не знает, что его укусило, но дразнить и выводить Сяо Чжаня — это чудесно. Он бы даже сказал, что вкусно. Кому-то может не понравится такая метафора, но лучшей в голове у него нет. Это просто пиздец как вкусно, и насытиться этим просто невозможно. Вот сейчас: господин Сяо вздыхает, так, что его щеки на короткий промежуток времени надуваются, округляя лицо, он выдыхает носом. Губы поджимаются, когда он лезет к нему, чтобы лично пристегнуть ремень. Сяо Чжань смекнул, что легче делать что-то самому в подобных ситуациях, чем продолжать убеждать. Ибо приятно. Всё, особенно то, как близко Сяо Чжань оказывается. Тот выбрал очередную водолазку, в этот раз тёмное бордо, (Ибо заметил край красного пятна ближе к кадыку, который выходит за полоску ткани, кажется, это заслуга его пальцев), опять же чёрный пиджак, чёрные брюки, чёрные туфли… зато два кольца и снова часы. Чжань поглаживает руль, пока они ждут поднятия шлагбаума. Затем выворачивает его, словно лаская, заставляя хонду выруливать из паркинга, затем медленно ползёт по ряду подворотен, перетeкая из одной в другую, и только потом, словно выдохнув, оказывается на проспекте. Чжань шепчет, смотря исключительно вперед, визуально занятый лишь дорогой:
— Ты должен отнестись к этому чуть серьёзнее, Ванцзе. Как только ты получишь документы, надо…
— Я сказал, что подумаю об этом, а не то, что я на это согласен.
Молчание. Оно длится до следующего перекрёстка, красный свет которого дарит Чжаню возможность повернуть голову и посмотреть на Ибо. Тот чувствует этот взгляд, смотрит в ответ и усмехается. В этом есть что-то от наглости, только вот напускной. Если Чжань хотел что-то сказать, то передумывает.
Зато говорит Ибо, когда тот уже отвернулся.
— Сяо Чжань. Рождён пятого октября, девяносто первый год. Весы. Заканчивал Чунцинский университет, архитекутрно-строительный колледж. Затем — Университет Эффата, факультет архитектуры и дизайна, Джидда. Магистратура — Лёвенский университет, Бельгия. На счету двадцать три личных проекта в пяти странах мира. Твоё бюро популярно и на государственном уровне, планировка нового здания для министерства иностранных дел — твоих рук дело. Твоё бюро также руководило постройкой всего сумасшествия на Олимпийские игры. Холост, богат. Твоё имя, как и имена большинства в мире, ключ к информации, которую не все хотели бы демонстрировать.
Чжань хмыкает, снова мягко ласкает руль пальцами, добавляет скорости.
— Мне нечего скрывать.
— Но ты и не давал прямого согласия на то, чтобы всё это гуляло по сети.
— В этом нет ничего такого.
— А что, если копнуть глубже, Сяо-гэ?
Сяо Чжань никак это не комментирует. Они встают в небольшую пробку. Пальцы барабанят по рулю. Ибо продолжает, в этот раз тише, выдавая информацию самым нейтральным голосом, словно мертвая речь дикторов государственных радиоэфиров:
— У тебя занимательные подписки и нравятся тебе занимательные вещи. Кроме всяких книг, побрякушек, новых гаджетов. И люди тебе нравятся определенные. Мне хватило одного часа ленивого изучения твоих профилей, и это при том, что ведёшь ты соцсети вяло, чтобы понять, что ты гей. И нет, даже не би, а именно гей. Это тоже та информация на распространение которой ты согласен?
Ладно, Ван Ибо знает — перегнул. Они в ловушке, машины спереди, машины сзади. Река красных и белых огней на фоне черноты дорожного полотна, тонущего в неоне и софитах фонарей по обе стороны. Сяо Чжань молчит, после — прочищает горло. Его голос звучит мягким и уставшим:
— Твои рассуждения заставляют думать, что твоё настоящее имя скрывает за собой нечто похуже. И все ещё не вижу связи с документами, тебе необязательно заводить соцсети, о которых ты говоришь, имея их.
— Не в Китае, очнись. Документы сразу же обязуют меня скачать как минимум шесть приложений, ну или вичат, железно. Быть привязанным к определенным… вещам. Мне это не нужно. Так моего лица нет ни в одной базе, я — статистическая погрешность камер видеонаблюдения. Фантом. Призрак.
— Но как ты собираешься выживать?
Ван Ибо пожимает плечами, отворачиваясь к окну. Ведёт по стеклу пальцем.
Шепчет: «Как выживают призраки». Чжань продолжает, не замечая этот шепот:
— Документы дали бы тебе возможность уехать за пределы Китая, раз тебе… так всё не нравится. Разве нет?
Ибо хмурится. Выдыхает на стекло, то ловит его дыхание и запотевает, но длится это недолго.
— Я не говорил, что не хочу быть в Китае. Просто я живу в таком Китае, о котором ты не знаешь.
Сяо Чжань молчит. Пробка постепенно рассасывается, они уже близки к светофорам. Навигатор показывает, что до ресторана еще десять минут езды. По прямой, затем поворот направо. Чжань поворачивает голову, изучая почерневшую макушку. Ибо же откидывается затылком на кресло, перестав елозить пальцами по окну.
— Почему тогда согласился? На этот вечер.
Ван Ибо усмехается, смотрит перед собой. Чжань уже думает, что не ответит. Но тот все-таки говорит:
— Потому что это тебе нужно на самом деле, а не мне. И мне интересно узнать, почему.
В этот раз Сяо Чжань не пускается в объяснения, да и разговор этот свёл на нет его «официальный мотив». Чжань тянется к навигатору, чтобы сменить виджет и посмотреть, нет ли пропущенных звонков или сообщений. Бай пишет, что все уже в сборе и ждут только его и его «протеже».
Всё-таки опаздывают. Неожиданно даже для самого себя, Чжань говорит, возвращая навигатору карту города:
— Я хочу, чтобы все поняли, что я живу дальше. Остаться на вечере дольше обычного, но чтобы не я привлекал всеобщее внимание. И взгляды. Мне показалось, что это хорошая мысль. Совместить твой выход в люди и сместить фокус. Извини, если это выглядит, как использование тебя в…
— Всё хорошо. На такое я согласен. Значит, отвлекать внимание на себя и в то же время не давать всем виснуть на тебе. И заставить тебя не сбежать, а досидеть хотя бы до десерта или зелёных соплей, если ты упьешься. Легко.
Сяо Чжань выдает короткий смешок, затем добавляет:
— Я не пью, Ванцзе.
— Ужасная ошибка.
— Я же за рулём.
— У тебя есть деньги на такси.
— Слишком много возни. Не люблю оставлять машину где попало.
— Если выпьешь, я скажу тебе своё имя. Настоящее имя.
Сяо Чжань умолкает. Смотрит на Ибо долго, а тот не отводит взгляд. Чжань прищуривается. Сейчас на нём линзы, в таком свете Ибо подмечает их кромку. Затем Чжань кивает и говорит «я подумаю».
Ван Ибо усмехается и снова отворачивается к окну. В конце очередного проспекта виднеется начало набережной. От этой мысли почему-то зябко, но Ибо тут же переключает свои мысли на что-то более насущное. Например на то, что ткнув пальцем в небо, оказался прав в своем предположении. Не тратил он ни минуты на то, чтобы всматриваться в чужие соцсети. Ответ и так на поверхности.
Сяо Чжань и правда гей. Вот и хорошо.
3. 天市垣
х х х
III.
道高一尺,魔高一丈。
Хоть добродетель и сильна, дьявол в десять раз сильней.
virtue is one foot tall, the devil is ten foot (idiom).
Узнать настоящее имя — хороший предлог для того, чтобы напиться. Хорошо так напиться. Безответственно и бессмысленно, как очень давно себе не позволял. И совершенно неважно, что жизнь вокруг продолжает нестись, нарушая законы и правила, смеясь в лицо всем своим разнообразием и пышащим жаром Чунцином, жаром влажным и вечным, вопреки зиме.
Сяо Чжаню очень жарко. В этой идиотской водолазке. Ему так жарко, что он уже давно потерял пиджак, закатал рукава, трёт по шее, улыбается несмешным шуткам и пьёт, пьёт, пьёт. Сяо Бай пытается подсунуть ему зелёный чай или воду, Яо Ин заходит на третий виток истории в четырёх актах, которую знает каждый в бюро: самая громкая сделка прошлого года, она заполучила для них проект очередного шейха, который тратил деньги, как лил воду. Хоть, казалось бы, как раз воду беречь он уметь должен. А что Ванцзе… Ванцзе сидит напротив, почему-то выбрав именно такую расстановку сил. Чжаню казалось, что было бы логичным, сядь тот рядом. И в плане протеже, да и вообще, вдруг не сможет грамотно выйти из положения? Но вечер шёл плавно и гладко. Ванцзе лавировал между каверзными вопросами, на всё имел своё мнение, умело уводил русло разговоров в безопасную гавань ничего-не-значащего. Вряд ли кто из присутствующих запомнил название «его» университета, а как только вопросы становились глубже вежливости, Ванцзе, словно дразнясь, всё пытался заметить что-то о политике, и, конечно же, даже самый любопытный оппонент предпочитал перебить его с бесконечным «лэй-лэй-лэй», вскидывая руку с о-тёка (чего та не всегда выдерживала, порывисто выплескивая содержимое), заливаясь авамори по новой. Это они так выпендрились, заказав всё самое традиционное, но при этом не набившее оскомину. Всё равно японская кухня отдавала китайским душком — не в меру насыщенная, с чем-то привычным для обыденного из специй, что Чжань всё никак не мог уловить, и местами слишком зажаристая.
Тем не менее, масла во всём этом было в разы меньше, чем могло бы быть. Чжань особо не питал иллюзий, но был приятно удивлен. В отличие от того же Сяо Бая, который вздохнул и назвал какое-то из рыбных блюд «слишком пресным». Чжань аж фыркнул, чем почему-то развеселил весь их круглый стол. Они заняли три таких, расставленных по застеклённой террасе. Чунцин раскинулся перед ними, блестящий и вместе с тем тёмный.
По набережной вспыхивали огни псевдо-исторических построек, старый город внутри города будущего, тот светился изнутри словно залитый жидким золотом. Чтобы увидеть его, Чжаню приходилось поворачивать голову вправо. Он стал делать так всё чаще, сопровождая жест очередной стопкой. Теперь уже чего-то не японского и явно покрепче. В очередную попытку Сяо Бая подсунуть ему воду, Чжань слышит, словно на первом плане, голос Ванцзе: «Не надо, ему сейчас явно нужно». Неясный шелест раздражённого ответа. Что-то про то, откуда Ванцзе знать. Чжань не слышит, что дальше. Он просто пьёт.
И пьёт, и пьёт, и пьёт. Ещё бы понять, что таким образом он пытается в себе утопить.
Но ведь покойники всегда всплывают, да? Вот и этот. Всплыл. Чжань понимает, что злится. Он запрещал себе злиться, но когда что получается, если запретить? Ни с детьми, ни со взрослыми это никогда не работает. Особенно, если дело касается чувств. Идиотская иллюзия идиотской уловки. Запретить себе. Чжань усмехается своим мыслям, кто-то пихает его в плечо, кажется, он вовремя отреагировал на что-то. Слышится «вот, господин Сяо знает, о чём я!». Если в начале вечера, когда все поняли, что шеф их не покинет, и была некая скованность, то сейчас уже многие рисковали переходить границы и даже вот так, совершенно свободно, касаться шефа, искать у него поддержки в своих предположениях, шутить анекдоты и даже не всегда произносить «господин», «шеф», «босс», «руководитель» перед фамилией. Кажется, это сам Чжань махнул рукой после очередной стопки и потребовал «забыть об условностях». Вот теперь его по спине и хлопают, плечи сжимают, и даже подкидывают еду на тарелку. «Вы за последний год так осунулись!». Это уже кажется На Цинь протянула, смешно надув щеки. Чжань запоздало пожимает плечами. Его глаза сейчас фокусируются слабо, кажется, линзы начинают печь. Временами такая ерунда происходила, чаще, чем ему хотелось бы. Потому очки были предпочтительнее. Чжань чувствует, что на него смотрят. Поднимает голову и, конечно же, это Ванцзе. Не смотрит, пялится на него в упор, и с таким интересом, что даже не по себе. Может, Чжаню только кажется? Он спрашивает одними губами «что?», но Ванцзе только ухмыляется краем рта. Всё-таки, черные волосы заставляют его выглядеть на порядок старше. Чжань, откровенно говоря, залипает. Если Ванцзе на него нагло пялится, то вот сам он… Глаза печёт всё больше, но он продолжает смотреть. Взгляд Ванцзе принимается скользить по его лицу, избегая прямого контакта, ниже, к шее. Замирает там. Чжань почему-то уверен — Ванцзе рассматривает то, как выглядывают следы от его пальцев на шее. Тот сжал и правда сильно, хоть и коротко. Зато так, словно и правда намеривался то ли задушить, то ли вырвать кадык. Чжань упоминал, что ему жарко? Просто пиздец как жарко. В этой террасе наверное налажали с вентиляцией. Взгляд Ванцзе поднимается, постепенно, так, словно смакуя каждый сантиметр пройденного. Чжаню так кажется, конечно. Наверняка в реальности всё выглядит совершенно не так, как он чувствует под негой алкоголя. Тот растекается по телу, наваливается ощутимее, словно самое мягкое объятие. Сяо Чжань больше не злится. Он почти что обо всём забыл. Стакан с водой ставят рядом с очередным стуком. Сяо Бай подпихивает под бок, говорит «босс, выпейте». Чжань мотает головой, с сожалением понимая, что только что нарушил какой-то момент. Ванцзе уже на него не смотрит. Он склонился к кому-то слева, вежливо улыбается и кивает, вторя сказанному. Он больше на него не смотрит. Почему это обидно? И странно. Что Чжань хотел, чтобы случилось дальше? Он переводит взгляд на Сяо Бая. Тот невольно охает. Чжань улавливает «очень красные». Кивает в ответ на «очки же с собой?», хоть это полуправда. Они-то с собой, но в машине. Чжань говорит, что ему нужно в туалет. Зачем-то громко извиняется, выходя из-за стола, как ему казалось, вполне грациозно. Скрип стула по плитке кажется слишком резким, но его никто не замечает в общем белом шуме. Смех, нескончаемый поток слов, приглушенный бит какой-то попсы из колонок. Сердцевина круглого стола крутится, взгляд отвести сложно, благодаря этому подступает тошнота. Чжань отошёл на пару шагов, отвернулся с усилием, теперь тщательно заворачивает рукава по новой, смотрит на часы — циферблат расплывается. Он делает это ради паузы, чтобы выбрать курс. Ему нужно умыться. Слишком жарко. Глаза печёт. Вытаскивать ли линзы? Глазам станет легче, но он станет чуть зрячее крота. Зачем он так напился? Хотел узнать имя.
Имя, имя, имя… это предлог, ты просто хотел напиться, вот и всё.
Чжань совершенно не помнит, как добрался до туалета. Наверное, это и хорошо, меньше позора в памяти. С алкоголем у него никогда особо не складывалось. Пахнет освежителем воздуха, что-то лимонное. Бьёт в нос резко и неприятно, хочется чихнуть. Чжань запоздало понимает, что если сделает это — быть беде, он, оказывается, пиздец как хочет отлить. Толкает первую дверцу кабинки, но та почему-то не поддаётся. Такая же хрень со второй. Писсуаров почему-то нигде нет и это ужасное упущение, как так?
— Погоди, ты в женском туалете, гэ. Надо было пойти направо, а ты пошёл… о, ками-сама, какой ты смешной.
Чжань оборачивается. Ванцзе смотрит на него, до бесячего спокойный и какой-то даже вальяжный, сунув руки в карманы брюк. Ну да, это не ему мочевой пузырь на яйца давит. Чжань машет на кабинки и выдает «не открываются!». Ванцзе вскидывает брови. Это выглядит нагло. Чжань думает, что опоздал с тем, чтобы требовать к себе уважения, хоть это ведь что-то само собой понятное. Но не для Ванцзе. Тот подходит ближе. Равняется с ним, продолжая рассматривать, чёрт знает, что именно. Красное лицо? Красные глаза? Взмыленную шею и явный беспорядок на голове? Чжаню плевать, ему надо отлить. Ванцзе наконец-то отворачивается. И вместо того, чтобы толкать дверь кабинки, тянет ту на себя. Чжань скомканно бросает «спасибо» и ужом заползает внутрь, хлопая дверцей за собой. Уже расстегнув брюки, он понимает, что не защёлкнул ту. Тонкий скрип сопровождает очередную страницу позора в жизни, но в конце концов, это же тоже самое, если бы тут просто был писсуар. Шум ресторана снова имеет доступ к туалету, Чжань аж дёргается, но наверное это связано больше с тем, что за ним следует: Ванцзе гаркнул, что тут занято. Чжань услышал какой-то женский писк, затем возмущенные ругательства. Чжань меланхолично думает, что под алкоголем с ним всегда происходит какая-то сюрреалестическая срань. Вот зачем он так налакался? Он смотрит вниз. Струя, как ни странно, льётся ровно и без перебоев. Только вот всё никак не закончится. Чжань слышит смешок. Тот кажется ему хриплым, даже бархатным, и совершенно неуместным.
— Ладная задница, гэ.
Чжань вспыхивает, но оборачиваться ни рискует. Разве он… а что он, а в смысле?
— Ты всегда так всё стягиваешь, когда собираешься отлить?
Чжань всё-таки оборачивается, проигрывая, но ещё не осознав это:
— Я не хочу залить одежду, идиот.
Ванцзе картинно округляет губы в «о», затем шепчет, «понятно, гэ всё-таки умеет ругаться, вау», а потом: «Лучше смотри вперед, ты ещё не закончил».
Чжань поворачивает голову и понимает, что таки обоссал ободок.
Позор не закончится никогда.
Честно говоря, Ван Ибо просто хотел, чтобы этот Сяо Чжань потерял контроль. Но он и представить себе не мог, насколько забавное зрелище его ожидает, и… как сильно всё запущенно. Он наблюдал, мысленно отмеряя каждый глоток чужого рта, сколько Сяо Чжаню требуется, чтобы достичь кондинции. Оказалось — до смешного мало. Главное, чтобы на голодный желудок. Вопреки разнообразию блюд и уверению всех вокруг, что японская кухня — самая любимая кухня шефа, тот практически ничего не ел. Поклевал банальный рис с овощами. Съел половину стандартной порции тамагояки. Заедал стопки алкоголя пухлыми шариками такояки, начиненными мясом осьминога. Но большую часть времени просто пил и слушал. Вряд ли он сказал и с десяток длинных фраз за этот вечер. Со стороны казалось, что он и правда включён в разговоры вокруг, он кивал так часто, что в какой-то момент Ибо даже забеспокоился — а выдержит ли шея? Шея, к слову сказать, прекрасна, ей очень идёт отпечаток его пальцев. Ибо позволил себе рассматривать своего горе-спасителя со всех доступных ему ракурсов. Ибо разрешил себе расслабиться, зная, что господин Сяо становится с каждым глотком всё более положительно-беспомощным. Это зрелище, непривычное и волнительное, заставило Ибо почувствовать что-то большее, чем просто любопытство. То, конечно, уже как два дня перетекло в более серьёзный «интерес», но теперь, Ибо ощущал нутром, ставки стали выше. Как далеко он сможет зайти? Задаться вопросом — «зачем мне это?», Ибо не стремился. В его жизни часто случались ситуации из разряда «а почему бы нет?». Можно сказать, это его кредо. Единственной ложкой дёгтя в этой чудесной бочке сладкой нутеллы, был секретарь Сяо Чжаня. Тот относился к Ибо с первой секунды весьма подозрительно. Заревновал, скорее всего. Ведь, судя по всему, этот Сяо Бай о Чжане знает всё, вплоть до бренда трусов, не говоря уже о таких банальных вещах, как график и номер медицинской страховки. Ван Ибо же ревности не ощущал. Во-первых, с чего бы? Он — временное явление, даже если ему удасться… удасться перейти грань. Никаких планов, никаких претензий, он готов к любому сценарию, да и вряд ли в нём проснётся хоть что-то большее, чем чувство жгучего интереса.
То сразу же пропадёт, стоит лишь кончить, знаем, плавали. Во-вторых…
Да, Сяо Бай, как только «шеф» пришёл, тут же принялся расправлять ему воротник водолазки, смахивать несуществующую пыль с пиджака и вкрадчиво вещать, что все уже в сборе. Да, многие поглядывали на них, делая многозначительные знаки друг другу и закатывая глаза (это уже когда алкоголь начал размывать берега), когда Сяо Бай подливал воду шефу, добавлял еду в его тарелку, шептал ему что-то на ухо и постоянно дёргал того за предплечье. Но нет. Ван Ибо видел — они никогда не трахались, и не станут, ничего плотского в этом не было. Скорее словно младший брат опекает старшего, а тот заботится, чтобы малого не обижали, и не стесняется его баловать. Поймав себя на этой мысли, Ибо несколько поник, но не дал ноте тоски увести его в своё болотистое русло. Ему это не нужно. Тем более, когда щеки Чжаня с каждой минутой становились всё ближе к оттенку его винной водолазки. Ибо думал, что Сяо Бай остановит его, слишком зоркий и понятливый, чтобы не уловить — Ибо, хоть и выждал целых три минуты, явно пойдёт за Сяо-гэ. Но тот был занят и не заметил его манёвра — коллега Бая посмел оскорбить кого-то там из попсовой тусовки айдолов, и теперь Сяо Бай с пеной у рта и бокалом из-под коктейля, расписывал невероятные таланты своего кумира. Делал он это так яро, что несчастный бокал вполне мог стать «розочкой» или пасть смертью храбрых — тот вот-вот должен был вылететь из его тонких пальцев. Так и случилось, Ибо слышал хрустальный звон стекла о плитку, когда за ним сомкнулись двери террасы, чему последовал взрыв пьяного смеха. А потом случился господин Сяо Чжань и женский туалет.
Наблюдая эту сцену, Ибо мысленно смаковал, каким бы было выражение лица Сяо Чжаня, если бы он сейчас подошёл сзади и… и… блядство. Сяо Чжань слишком смешной, чтобы думать о нём пошло, и слишком несчастно хмурится, не понимая, почему двери кабинок предают его доверие. Алкоголь превратил собранного, скрытого, местами наигранно холодного мужчину в ребёнка.
Капризного, язвительного ребёнка. Чудеса. Ван Ибо прежде никогда не хотел зрелого мужчину в свою постель. Если уж иметь выбор. Его сексуальная жизнь пестрила случайными связями и связями за деньги, в списке было всего раза три с проникновением, и это всегда было быстро, больно, дорого и не имело для него ничего общего с чем-то желанным. Член вставал, член кончал, анус зудел, неделя вычеркивалась из активной жизни, и всё тут. Просто ещё один способ заработать наличку. Гордость его это тоже никак не задевало, и жертвой он себя не чувствовал — он сам предлагал такой спектр услуг, когда к нему подкатывали на заправках, в тёмных подворотнях и клубах. Когда ты выживаешь, ты делаешь для этого всё, вот так просто. Главное, конечно, резинка на чужой хуй, если тот планирует быть в твоей жопе, это золотое правило он усвоил от… какая разница. Это просто логичное и очевидное правило, ведь когда ты копишь деньги на еду и ночлежки, то понятное дело, что собирать на лечение какой-то хуйни ты позволить себе не можешь. Вывод? Не нужно её цеплять. Секс был самым последним способом быстро заработать денег в самые критические моменты. А для удовольствия… Ибо любил таких же, как и он сам. Иногда ещё худее. Ничего больше дрочек и минетов. И этот кто-то никогда не был выше, настолько старше, никогда не одевался так хорошо и так вкусно не пах. Пора признать — наблюдая, как пьет Сяо Чжань, Ибо тоже позволил себе парочку стопок, ладно? Иначе мысли бы так легко и свободно не текли в определенную сторону. А потом Чжань стянул свои брюки вместе с бельем. И Ибо узнал, что на правой ягодице у того есть две родинки. Одна выше, другая ниже. Казалось, что между ними можно провести ровную линию. Кончиком языка. Задница, на пару тонов бледнее, чем ожидалось, покрытая тёмной порослью задняя сторона бёдер, да и, — Ибо прищуривается, делает шаг ближе, останавливая дверцу от полного открытия, частично виснет на ней, продолжая смотреть, — если развести эти ягодицы, вряд ли там обошлось без волос, очевидно. Почему он думает об этом?
Подойти сейчас сзади — было бы так просто. Ещё интереснее было бы успеть раньше, чем Чжань наконец-то начнет ссать. И заставить того страдать, от сочетания стыда, желания, ужаса, поджатых яиц и давящего мочевого пузыря. Интересно, возможно ли отлить, если у тебя стоит?
В туалет справедливо хотят зайти какие-то дамы, но Ибо достаточно категоричен, чтобы этого не допустить. Может, это закончилось бы плохо, но не успевает — они уже выходят, когда к двери идёт кто-то из менеджеров вместе с теми девушками. Увидев, что это «господин Сяо Чжань», всё участие менеджера заканчивается коротким поклоном (Чжань его не замечает, он решил втыкать своими красными глазами на японскую гравюру во всю стену), и словами для дам «туалет свободен, проблема решена, верно?». С — сервис. Ван Ибо встаёт ближе к Чжаню, который нелепо вскидывает руку, а затем тычет в лицо какому-то самураю.
— Я видел в кабуки точно такого же мужика.
Ван Ибо притворно выдыхает «вау, гэ». Чжань приобнимает его за плечи, и вот это уже неожиданно, продолжает, свободной рукой всё тыкая на это «аутентическое творчество»:
— Кабуки стало пародией на сюнга, Ванцзе… наверное… это середина восемнадцатого века. Злодей «убивает» Вада Юки, отца Шизумы…
— Убивает? Мне кажется, тут ничего такого не происх…
— Убивает в смысле проникнув в него, Ванцзе… Пенетрация как метафора убийства. Вот у него лицо как у Вада Юки, я клянусь тебе, я потом найду картинки…
— Не надо, я думаю, я обойдусь…
— Похабная, такая похабная версия пьесы, я так смеялся… почему они использовали такого персонажа в ресторане…
— Смеялся, что кто-то делал вид, что трахает другого мужика на сцене, называя это убийством? У тебя такое уникальное чувство юмора, гэ…
Ибо чувствует, как плечо сжали куда сильнее. Он рискует повернуть голову. Сяо Чжань смотрит на него и во взгляде, хоть и пьяном, мелькает что-то такое, что Ибо уже видел. Там, на мосту. Шутить больше отчего-то не хочется, но это и не пугает. Ибо смотрит. Смотрит, пока Чжань сам не отворачивается, затем тот играет в беззаботного: треплет по черным волосам Ибо, добавляет «платина шла тебе больше, но так ты больше похож на всех», собирается идти обратно к террасе, но Ибо ловит его за руку. Ровно у запястья. Потянуть легко достаточно для того, чтобы Чжань и остановился, и развернулся. «Что-то с моста» из глаз ушло, зато те стали ещё стекляннее.
— Так значит, я нравился тебе блондином больше?
— Ты не был блондином, это была платина.
Ван Ибо усмехается и кивает. Затем говорит: «У тебя глаза красные».
— Это линзы. Очки в машине, мне… не знаю. Печёт, но если сниму, буду совсем… как слепые котята.
Ван Ибо все ещё держит его за руку, хоть в этом нет смысла, Чжань уже никуда не собирается. Ибо смотрит на следы брызг на водолазке — это Чжань тщательно мыл руки, зачем-то бурча под нос «сдохни, ковид, сдохни, ковид», но вовсе не зло, а как-то даже буднично. Зараза, о которой уже почти что все забыли, после волн локдаунов и неисчисляемых жертв, которые погибли скорее из-за системы, чем из-за самого вируса. Ибо с одной стороны счёл это забавным, с другой — мысленно сделал пометку. Взгляд поднимается выше. Губы у Сяо Чжаня пересохли.
Ибо спрашивает, тише и на тон ниже, сокращая расстояние:
— Ты хочешь вернуться?
Медленное моргание, нахмуренные брови.
— Куда?
Ван Ибо сдерживает усмешку и качает головой, поясняет: «За стол». Чжань кривится, отрицательно мотает головой, словно пятилетка. Ибо тянет за руку ещё, заставляя уже Чжаня сделать шаг навстречу.
— Тогда, может… сбежим?
Сидеть на полу, наверное, не очень приятно, но Сяо Чжань сейчас это не считывает. На его плечах пиджак-френч, бутылочного цвета. Хорошо сочетается с его водолазкой. Этот факт почему-то ярко отпечатывается в мозгу, совершенно незначительный и оттого безопасный. Их «побег» не был путём вниз, они не пошли к машине и даже не порывались просто выйти из здания. Побег поднял их высоко-высоко. На последний этаж южной башни, в ту часть смотровой площадки, которую только собирались открыть. Застеклили пару дней назад, и установили стойки с биноклями. Пустое, огромное пространство, где все ещё пахло бетоном, пластиком и краской. Любой шорох казался здесь оглушительно громким. Ванцзе где-то нашел бутылку воды, теперь она стоит между ними. Никто к ней пока не прикасался. Совсем скоро подчиненные Сяо Чжаня зажгут бумажные фонари и пустят их с другой стороны башни. Там, где вид на Янцзы. Интересно, как быстро те сгорят, интересно, не случится ли пожара, может быть такая вероятность? Чьё-то желание станет кому-то горем. Сяо Чжань хмыкает на свои мысли, Ванцзе ничего не уточняет. Их вид — другой. На бескрайний океан из сотни тысяч окон, неона рекламы, клякс фонарных систем и россыпи красных маяков на кончиках небоскрёбов — предупреждений для самолётов и вертолётов. Ванцзе прочищает горло, как делает довольно часто. Чжань наконец-то тянется к бутылке. Алкоголь в крови расстворился до слабости, движения вялые, а мысли — ворчаются неповоротливо, изредка скатываются камнями в пропасть. Чжань шепчет у горлышка бутылки, прежде чем сделать мелкий глоток:
— Ты говорил, что ты из другого Китая. Там такие же виды?
Он слышит хриплый смешок, затем такой же шепот: «Такие виды — каждый день, если захочется, только бывает холоднее, чаще всего потому что смотришь с крыши». Чжань чуть морщится. Вода без газа, а также без вкуса и запаха. Он глотает её снова, продолжая смотреть на полотно замеревших искр. Впаянных в эту ночь и в этот город. Он хочет напомнить вслух, что Ванцзе должен ему своё имя, но пока молчит. Ему кажется, будет неправильным напомнить, сломает что-то. Тот не забыл, не мог. Имя, как говорил он сам, это — ключ. Чжань понимает, что хочет им владеть, хоть это наверняка ничего ему не даст. Но в то же время кажется, что это… так важно.
Голос Ванцзе звучит тихо, но из-за пустоты вокруг кажется объёмным, словно повсюду стоят динамики, а он шепчет через них до самого нутра:
— Мы любили сидеть в подобных местах с братом. Не родным братом, так… вышло. Я бывал на многих крышах, забирался очень высоко. Вид всегда красивый. В каком бы городе ты ни был. Города не могут быть некрасивыми, когда смотришь на них сверху. Тебе нравится? Быть тем, кто создаёт их?
Чжань прокручивает фразу в голове ещё раз, голос Ванцзе звучит так чётко, словно тот и правда повторяет слово в слово, только теперь ему на ухо. Быть тем, кто создаёт города? О, это…
— … слишком. Я не создаю города, я… люди, Ванцзе, люди создают города, все эти… здания, это не про город. Не так, как я это понимаю. А я… создаю пространство. Свет. Создаю… м-м.
— Ты создаёшь пространство и свет.
Сяо Чжань считает, что лучше бы и не выразился, хоть и сам толком не понимает, что имеет в виду. Пусть так, ему правда нечего добавить. Он не создаёт города. Он создаёт стены и крыши, бетон и стекло, вторит природе или дразнит её, он создаёт пространство, где можно быть, где можно жить, где можно спрятаться и куда можно вернуться. Чжань отчего-то уверен, его слова поняли именно так, а значит — нет нужды пояснять. Он слышит, как Ванцзе медленно выдыхает. Затем его тепло, полное бергамота и чего-то от зелёных листьев чая, оказывается ближе. Бедро к бедру. Рука, ладонью вверх, на уровне груди. Чжань фокусируется на ней и впервые с момента, как они зашли сюда, потревожив тяжелые «шторы» плотного целлофана вместо дверей, он смотрит в лицо Ванцзе. Взгляд спокоен, как и жест. Теперь почему-то не кажется, что он намного младше, хоть всё осталось прежним. И в чертах лица, и в теле. Но не в глазах.
— Меня зовут… Ван Ибо. Ванцзе… так меня называли, когда я был совсем маленьким.
Чжань не очень понимает, что ему делать с рукой. Нет, в западной культуре и в фильмах, их надо жать. Странно, что Ванцзе… Ибо выбрал этот жест? Или не странно? Чжань не хочет жать эту руку. Он хочет другое. И делает это другое. Подаётся ближе и касается губами края чужих. Левый уголок. Который часто кривится в усмешке. Чжань отстраняется тут же, словно ничего и не было, берёт бутылку и жадно пьёт. Объяснить всё алкоголем — просто. Чего он не ожидает, так это следующего вопроса. Это в каком-то смысле даже жестоко. Он глотает воду, пока та не заканчивается. Ван Ибо, — теперь можно называть вещи своими именами, верно? — никак не комментирует порыв, зато он спрашивает: «Кого ты потерял?».
Добавляет: «Я видел коробку в кабинете. Ты выглядел счастливым».
Коробку. Чтобы увидеть коробку, нужно было открыть верхние ящики старого шкафа. Вытащить и вскрыть. Как рану, как брюхо, как…
— Я не потерял. Я убил. В каком-то смысле. Не буквально. Я просто… Зачем тебе?
Чжань не видит, как Ван Ибо смотрит на него. Его рука, которую и не приняли, но и не отвергли, слегка сжата в кулак, зато левая, ближе к чужому бедру, ведет пальцем по тонкой ткани брюк Сяо Чжаня.
— Считай это как… разговор с попутчиком или незнакомцем. Люди обычно рассказывают свои истории, ничего не таясь, им становится легче.
Чжань медлит. Затем отвечает, ещё тише, чем до этого:
— Ты не попутчик и не незнакомец, Ван Ибо.
Смешок. Палец, что вел по бедру, наглеет. Доводит жест до колена, затем гладит над ним, раз, два.
— Земля вращается прямо сейчас, мы катаемся, гэ, почему не попутчик? И ты ничего обо мне не знаешь. Теперь — только имя. Так что я — твой незнакомец.
Чжань опускает взгляд на чужую руку. Как бы ни казалось, что этот Ван Ибо в раз повзрослел, и замашки, и рассуждения, и даже этот жест — очень детские. Как и вся философия. Пахнет юношеским максимализмом, свежей дуростью, наглостью и полной уверенностью в своей правоте. Незнакомец из другого Китая, попутчик в незаметном путешествии. Всё-таки у пьяных разгоров свой, особый шарм. Надломленный и искренний. Никому не нужный в реальной жизни.
Как с этим всем справляться на трезвую голову? Чжань мягко сжимает чужую руку, убирая с колена, зато переплетая пальцы, чтобы положить повыше, у бедра.
— Землю качает, надо держаться, попутчик. Мне не станет легче. Как и тебе не становится, верно? Ты сам не спешишь мне ничего говорить. Да и… мне не хочется. Так.
— Не хочется рассказывать?
— Не хочется, чтобы ты остался незнакомцем и попутчиком.
Ван Ибо молчит. Чжань снова смотрит на Чунцин. Мелькает мысль — возможно, их ищут? Мелькает и тут же гаснет, синхронно с одним из огней, там, далеко. Вот был свет, а вот его не стало.
Ван Ибо шелестит «зачем тебе это?». Чжань не знает, что тот хочет услышать. Чжань не знает.
— Ван Ибо, ты умеешь водить? Хотя, ты тоже выпил…
— Я выпил не так уж много. Буду ехать очень медленно.
— Нет, мы вызовем такси. Что я должен сделать, чтобы узнать, сколько тебе лет? Только не проси снова выпить. Моя печень уже слишком стара для…
— Нарисуй мне дом. Пространство, свет. Всё вот это. Дом. Ты хочешь узнать, потому что хочешь меня трахнуть?
Усмешка на губах. Сяо Чжань смотрит на неё, пропустив момент, когда повернул голову. Вот был Чунцин, а вот — его губы. Чжань опускает взгляд и смотрит на их руки.
— Нет, — большой палец гладит по тыльной стороне ладони, свои пальцы кажутся меньше и аккуртнее, чем его; руки, которые явно видели больше работы, тяжелой и может даже такой, о которой лучше не говорить вслух, кто знает, — я хочу чего-то похуже, наверное. Хорошо, я нарисую тебе дом, Ван Ибо.
— Такой, в котором можно будет жить. Нарисуй такой.
Сяо Чжань молчит. Дом, в котором можно будет жить. Почему-то сейчас он думает, что ещё ни разу за все года своей карьеры, не «нарисовал» такой. Не то что спроектировал.
Чунцин поглощён ночью, Чунцин поглощён тьмой. Хочется успеть домой до рассвета. Кажется, что если увидеть восход солнца отсюда, Небо узнает все его секреты.
Но определенные вещи должны оставаться во тьме.
4. 東方青龍
х х х
IV.
越是试图忘记,越是记得深刻。
— чем больше ты пытаешься забыть, тем больше ты помнишь.
Каким бы положительным ни казался человек, к нему не стоит привязываться.
К нему тем более не стоит привязываться. Да и как это возможно за такой короткий срок?
Всего лишь интерес. Всего лишь исключение, подтверждающее правило. Исключение во всём, к чему привык и чего ожидаешь. Ван Ибо наблюдает, как Чжань тянется к верхней полке, достаёт очередную стопку книг, хмурится, трёт переносицу, подушечка пальца достигает мостика очков, скользит ниже, книги кладутся на стол. Рядом с ним — кульман. Ибо назвал бы его просто «чертёжный стол», но Сяо Чжань только хмыкнул и заметил себе под нос, что это — вещи разные. Раздражение хочет подняться от желудка к глотке, а оттуда — оформиться в слова, но Ван Ибо впервые молчит. Ему это не нравится. Он не должен ничего корректировать, чего-то опасаться, он должен всем видом показывать, что ему — плевать. Он не держится за это место, за этого человека, тот не властен над ним, он может уйти в любой момент и всё это… всё вот это…
— Ты сегодня очень тихий, Ван Ибо.
Сяо Чжань коротко оборачивается, бросает взгляд, осторожный и мягкий, такой, который лучше бы не заметить. Ван Ибо ничего не отвечает, он стягивает влажную тряпку с подоконника, снова трёт раму. Дерево впитывает влагу. Кабинет — единственное место, где окна не пластиковые. Это помещение в принципе словно вырезано из какого-то другого дома. Вокруг — сплошное светлое дерево, бесконечные полки по всем стенам, засохшие цветы в массивных кадках, потолок — ниже, пересечен чёрными балками. Вокруг пыль. Она сохранила следы «преступления» — смазанная там, где Ибо касался вещей. Можно проследить путь до шкафа сразу за дверью. Ибо разбудил тогда звонок в дверь, он понял, что доставили костюм. Но тут вспомнилось, что он хотел увидеть кабинет. Прошёл туда. Походил. Почихал. Смёл пыль, рассматривая фолианты, посидел в пыльном кресле. Открыл тот шкаф. Стопки постельного белья, стопки футболок, три чёрных рубашки. И коробка на верхней полке. На ней были английские буквы, которые сложились в имя. Конечно же Ибо потянул ту на себя. Покопался мельком. Железные пеналы, полные остро заточенных карандашей, коробка поменьше, затем — фото в рамке. Сяо Чжань, как оказалось, умеет широко улыбаться. У него тогда глаза прищуриваются. Причёску дурацкую носил, это сейчас — по вискам слегка выбрито, сверху копна погуще. Жалуется вслух, что не слушаются. Тогда — типичная, почти стандартная мужская причёска. Футболка с принтом какого-то анимешного героя, светлые джинсы. Рука, приобнимающая за талию, пока сам Чжань показывает камере большой палец. На фоне — зазубренная линия небоскребов. Тогда Ван Ибо только хмыкнул, едва ли мазнув взглядом по мужчине справа. Сложил всё обратно, вышел, вернулся на диван, лёг, уснул опять. Его ничего не волновало.
Что могло измениться за сутки? Дебилизм.
— Что?
Оказывается, Ван Ибо ляпнул это вслух. Он никак не поясняет свой выпад, в ответ на вопросительный взгляд — пожимает плечами и бросает тряпку в низкий тазик. Плюх. Вытирает руки о уже другую тряпку — Сяо Чжань порезал одну из футболок, — подходит ближе.
Звучит куда серьёзнее, чем хотел, словно имеет право на какую-то претензию:
— Это его кабинет, да? Не твой.
Сяо Чжань снова мельком смотрит на него и кивает. На верхней полке стеллажа не осталось книг, теперь можно не приподниматься на носочки каждый раз. Чжань переходит к следующей. Тут уже книги чередуются с журналами, в конце стоит статуэтка пузатого Будды. Чжань начинает с неё. Снимает, обтирает влажной салфеткой (гений уборочного процесса), кладёт в картонную коробку. Таких по кабинету много, с утра как раз пришла доставка из Икеи. Запаздывали только кровать и матрас. Оказывается, Сяо Чжань заказал ещё на работе. «Если кровать не понравится — отменим, была скидка. За матрас ручаюсь, для спины — самое оно». Почему Ван Ибо хотелось ответить ему — да пошёл ты? Бред. Почему за одни сутки всё стало бредом. Что его так задело? То нелепое касание почти-что-губ? Понятное дело. Пьяный, здоровый мужик, сам он со своими трогательными речами, лезущий руками куда не надо, до этого откровенно дразнящий Чжаня весь вечер. В тот момент это было забавно. Особенно это выражение лица Сяо Чжаня в рассеянном свете ночного Чунцина, проникающего через стекло. Его хотелось запомнить, законсервировать, сделать из этого анимацию, заставлять Сяо Чжаня тянуться ближе, касаться и отстраняться до бесконечности. По кругу. «Я не потерял. Я убил». Ван Ибо ловит себя на мысли, что хотел бы, чтобы тот говорил буквально, потому что тогда… тогда… что тогда?
— Дашь мне тряпку? Только выжми сначала. Хочу протереть здесь…
— Яо Ин говорила, что ты в трауре уже больше трёх лет. Столько же тут и не убирался?
Снова выходит резче, чем задумывалось. Ибо хотел звучать отстранённо. Он наклоняется к дебильному красному тазику, выжимает дебильную тряпку, вода, серая от пыли, капает обратно. Он подает тряпку Чжаню, тот смотрит ему в глаза, пока собственные кажется, что смеются.
Что за хрень?
— Я не в трауре. Просто так выгляжу. Злость и вина — это не про траур, мне кажется. Траур — это про скорбь. Я не скорблю. Нет тоски или печали. Поэтому я…
Чжань не заканчивает фразу. Пожимает плечами. На нём серая футболка, точно такая же, как и на Ибо, только не такая растянутая. Домашние штаны, видно, бывшие спортивные. Босые ноги. Ходят по светлому паркету, а тот и рад скрипеть. Тряпка елозит по полке, лишенной книг и журналов. Ибо и не заметил, как Чжань уже всё стянул. Тот продолжает, но не в ту степь:
— Ты узнал обо мне ещё больше. Несправедливо. Давай в игру?
— Игру?
— Три вопроса в день. Ты — мне, я — тебе. Правила такие: не обижаемся, если вопросы кажутся странными или не тактичными, не обсуждаем, не докапываемся. Ты уже использовал два, у тебя остался один. Потом задам я.
Ван Ибо тянет «м-м» с сомнением. Снова подходит к шкафу. Он единственный тут выбивается. Потому что из вишневого дерева. Старый, такой, какие были в комнатах богатых китайцев в фильмах о временах до революции. Или во время. Ибо касается круглой ручки, трёт её медный бок большим пальцем, спрашивает «зачем мне это?», а затем дёргает дверцу на себя. Чжань никак не реагирует на это. Продолжает вытирать полку. Не оборачивается, когда говорит:
— Потому что тебе интересно. Сам же хотел поговорить, попутчик.
А вот это уже низко. Ван Ибо закатывает глаза, но этого не видно, он рассматривает внутренности шкафа, который уже мысленно окрестил «проклятым». Поднимает взгляд. Коробка на месте. Черные буквы, гласящие «James» на месте тоже. У Ван Ибо остался последний вопрос на день.
Он смотрит на эти буквы, на заломленный край коробки, говорит громче:
— Ты сказал, что убил его, но не буквально. А как? Вдруг я живу у маньяка, надо учитывать риски.
Ван Ибо слышит фырканье, затем смех и «ну надо же». Он игнорирует это, принимаясь вынимать старое постельное белье и бросать на пол. Он только что решил для себя, что в этом шкафу будут жить его новые вещи, как только высохнут после стирки — Ибо не нравилось, как все футболки и новая рубашка пахли духами Чжаня и его лосьоном после бритья. Голос Чжаня оказывается слишком близко, настолько близко, что Ибо невольно вздрагивает, но не оборачивается.
Чжань говорит:
— Я был «раковой опухлью, которая сожрала всю его жизнь и пустила метастазы в будущее, иссушивая его и убивая желание жить и творить, я был тем, ради которого он пожертвовал столь многим, что у него ничего не осталось, и это я вынудил его пойти на такой шаг». Но на деле мне просто не нравилось, что он трахает кого-то ещё в этом доме. И я велел ему катиться. Возможно я и перегнул где-то, не отрицаю, но… во всяком случае я не трахался с конкурентами.
Чжань теснит его, чтобы вытащить коробку. Ибо запрещает себе проводить ту взглядом. Он занят тем, что бросает чужие черные футболки и рубашки на пол. Получится много новых тряпок.
Что-то в словах Чжаня заставило усмехнуться. Довольно усмехнуться. Это же плохо, очень плохо.
— Это всё ещё не ответ на вопрос «как», ведь он не просто «укатился», а умер.
Ибо слышит, как коробку ставят на стол. Молчание затягивается. Он рискует обернуться. Чжань упирается руками в эту проклятую коробку, склонившись над ней. Узкая спина, поднятые плечи. Нет дрожи, так что, вряд ли тот плачет или что-то вроде. Чжань звучит тише и в этот раз в голосе нет ничего из эмоций, словно это диктор и его свежая сводка погодных условий на воскресное утро. «Плюс двенадцать градусов, ветер умеренный, северо-западный, к вечеру ожидается туман».
— Он вылетел из этого кабинета, спустился в паркинг, сел на свой байк и разбился насмерть в четырёх кварталах отсюда.
Ван Ибо продолжает смотреть. Ждёт, что Чжань обернётся, но он этого не делает. Снимает очки, трёт переносицу. В дверь звонят. Чжань бросает «о, кровать, точно» и выходит из кабинета, не удостоив Ибо взглядом. Тот подходит к коробке. Побросав в неё вещи в тот раз, он оставил фотографию на самом верху, а ведь вытащил её со дна. Сяо Чжань на фото навсегда замер в улыбке. У мужчины справа взгляд прикован к его шее.
Ибо не знает его и никогда не узнает, но почему-то он ему… не нравится.
А должен быть безразличным.
Коробку с сюнга Ибо находит во время перекуса. Они втащили каркас кровати, затем матрас, расчистили место в кабинете, вынеся весь мусор и штук десять ящиков с барахлом. Затем Чжань сказал, что пора поесть. Кинул в шипящее масло пачку цяоцзы с нежной говядиной, поручил Ибо нарезать огурцы. Тот отнёсся к заданию со всей серьёзностью, но не мог определиться — нарезать соломкой, кружочками или квадратиками? Так что весь килограмм огурцов из пакета (а Чжань наивно полагал, что тот возьмет штучек пять, а не все) превратился в гору огуречной крошки разных габаритов, что вызывало на губах Ван Ибо довольную лыбу. Нет, он не издевался. Он правда гордился. Чжань оценил его старания молча, чуть сдвинул очки, затем кивнул на самую большую из стеклянных пиал и сказал скинуть всё туда, залить по вкусу, чем захочет, но добавить чили-пасту с соевым соусом. Они уселись на ковре, ближе к окну, в обществе всё тех же коробок, особо не сговариваясь — стол был занят растрёпанными папками с какими-то рабочими набросками, которые Чжань обсуждал с кем-то по телефону ранним утром, да ещё и на английском, тщетно борясь с похмельем (улики — куча выжатых лимонов и лаймов в мусорном ведре). От этого бубнёжа, странных смешков и долгих «м-м», Ван Ибо и проснулся. Можно было бы плюхнуться на диван, но это казалось менее удобным — да и как так поднос поставить? Дурость, конечно. Квартира большая, а места, где приткнуться с тарелками пельменей, не так уж много. Да и ковёр этот лучше было бы постелить у дивана, разве нет? Ван Ибо задаёт этот вопрос вслух, на что Чжань только одобрительно мычит, прожёвывает и только потом добавляет «как-нибудь надо будет». Именно в этот момент Ибо лезет в коробку слева от себя. Та не была подписана James, что уже внушало некий оптимизм и не давало поводов для подвоха. Ибо жует, одной рукой держит палочки, другой копается в недрах. Достаёт деревянную шкатулку размером с альбомный лист. Чжань узнаёт её в эту же секунду, начинает жевать медленно, но Ибо не останавливает. Тот поднимает крышку, поддев мелкий железный крючок. Чжань глотает, но не спешит браться за очередной цяоцзы. Тянется к стакану с гранатовым соком. Говорят, полезно для кровеносной системы. Ван Ибо не меняется в лице. Зато откладывает палочки — некультурно, просто в тарелку, — и устраивает шкатулку на коленях. Пальцы, еще недавно бывшие в чили-соево-огуречной пасте, но тщательно облизанные минутой ранее, достают первую гравюру, заключенную в тонкое стекло. Чжань всё-таки отвлекается на пельмени. Берёт один, кусает, сок предсказуемо брызжет, но вяло — пачкает ворс ковра, вызывая в Чжане желание вздохнуть, которому он не следует. Просто прикрывает место преступления салфеткой. Ибо неуверенно шепчет:
— Разве такое возможно?
Чжань усмехается, затем невольно смакует мысль и усмешка становится смешком. Он вытирает пальцы о новую салфетку и тянется за гравюрой с коротким «дай». Ибо подчиняется не сразу, с сомнением передаёт «японское древнее порно» Чжаню. Тот поправляет чуть сползшие очки. На картине очевидно самурай, держит на весу куртизанку, чьё кимоно порядком истрепалось после «жаркой битвы» — видна грудь, традиционно — сам момент коитуса. Непропорционально большой член, входящий в до крайности смущенную женщину. Так подписано, а по взгляду и не скажешь.
Чжань все ещё усмехается и ведёт плечом, вручая Ибо гравюру обратно, снова берётся за пельмени, рассуждая:
— Что именно? Поза? Наверное. В порно же такое случается, если достаточно накачаться. Долго ли, вот в чём вопрос.
— Я про размеры.
Пельмень выскальзывает из палочек Чжаня и шлепается обратно в тарелку. Этот коварный пельмень надо наказать. Чжань берётся за него снова и сует в рот целиком, ловя на себя странный взгляд Ибо. А, он не шутит.
— Конечно невозможно. В сюнга часто изображают огромные члены.
Ван Ибо кивает, будто бы это информация — важная и серьёзная. Он откладывает гравюру, смотрит в шкатулку и вытягивает следующую. Рассматривает. Откладывает. Вот ещё одна. В этот раз — партнером явно богатого японца выступает вовсе не женщина. Ибо рассматривает мазки туши, оформление вокруг — ветви сакуры, японский текст, разобрать который он не в силах. Мужчина старше, о чем свидетельствуют габариты и расписаные одежды, разложил младшего (тонкого, щуплого, почти женщину — если не считать зону паха) ровно под выступающими корнями дерева. Берёт сзади, будто бы грубо, но придерживая за бёдра. Лицо младшего выглядит забавно, словно тот замыслил что-то коварное, пока старший явно сосредоточен. Ибо сует гравюру Чжаню отчего-то резким жестом, возвращается к тарелке, пихает цяоцзы в рот и, жуя, спрашивает: «Что написано?».
Чжань сначала смотрит на него, Ибо жует и так сильно старается выглядеть незаинтересованным и не смущенным, что можно подумать, будто бы тот обижен или даже злится. Даже моргать перестал. Чжань опускает взгляд на гравюру, отмечая, что все-таки следы жира от пальцев на стекле Ван Ибо оставил. Он проходится взглядом по тексту, затем зачитывает его на японском.
Только после этого переводит:
— «Весна, тайная встреча становится явной, тоска сёгуна». Положи обратно, только вытри салфеткой. Вся эта коллекция стоит, как эта квартира. Он над ней трясся, как припадочный.
Чжань отдаёт гравюру, подмечает, что на фразе про него, Ван Ибо явно скис, но тут же снова сделал вид, что ничего не произошло. Смешной, Небо ему помоги. Ибо старательно трёт гравюру салфеткой, кладёт всё обратно. Закрывает шкатулку, откладывая на ковер рядом с собой. Продолжает на неё смотреть, уточняя, с якобы уничижительным смешком в конце:
— Почему не продашь? Тебе они тоже нравятся? Дороги, как память?
Чжань мычит отрицательно, загребая побольше огуречного нечто себе в тарелку, затем произносит, поглядывая на Ибо исподлобья, прежде чем захрустететь салатом: «Слишком много вопросов, лимит исчерпан, моя очередь, помнишь?». Ван Ибо переводит на него взгляд. Смотрит дольше, чем было бы нормальным, и во взгляде этом Чжань не может прочесть ровным счётом ничего — Ван Ибо действительно закрылся, схлопнулся и окаменел. Он кивает. Готовый, словно ожидая нападения. Хочется сказать «расслабься», но такое встретит либо игнор, либо насмешку. Чжань опускает глаза в тарелку, решает задать первый:
— Ты говорил, у тебя есть брат, но не родной. Где он сейчас?
Ван Ибо отвечает тут же, продолжая смотреть на него:
— В тюрьме.
Ясно. Чжань зачем-то решил «похоронить» очередной пельмень под огуречной массой, задумчиво мычит, задаёт следующий вопрос:
— Ты… неплохо образован, как для того, кто не имел никогда документов, соответственно, не ходил в школу. Вроде как. Где ты получил образование?
— Брат учил меня всему.
Чжань, кажется, не умеет задавать правильные вопросы, чтобы получить нужные ответы. Он вздыхает, откладывая и тарелку и палочки, смотрит на Ибо. Третий вопрос. Последний на эти сутки.
— За что брата посадили в тюрьму?
Ван Ибо смотрит и молчит. Тишина в лофте становится чётко осязаемой. Чжань не думает её нарушать, продолжая смотреть в ответ. У них уговор: нет обид, нет попыток расспросить. Три вопроса — три кратких ответа. Ибо мнёт край футболки пальцами, смотря на него, сглатывает. Кадык ухает вниз, Чжань первым отводит взгляд. Наверное, зря он…
— Брат меня защитил.
Сяо Чжань возвращается взглядом к глазам Ибо. Выжидает пару секунд, затем кивает. Он встаёт, подбирая с пола свою и чужую тарелки, забыв про стакан с соком. Повинуясь порыву (и, кажется, уже почти по привычке), треплет Ван Ибо по голове и говорит «хорошо». Вернёмся к насущному. Надо загрузить посуду в посудомоечную машинку. Затереть пятно на ковре.
И собрать для Ван Ибо кровать.
х х х
В жизни Ван Ибо было немало проблем, на которые он внимания не обращал. Возможно, даже не относясь к ним, как к проблемам. Скорее — течение его жизни полно вызовов, мелких и крупных, которые нужно преодолевать и жить, жить… странно иметь такую философию, когда не так давно стоял на мосту, позволяя ветру распинать тебя на холодном металле перил. Но Ван Ибо действительно не собирался прыгать. Он, вроде как, задумал заключить сделку со Вселенной.
И пока что не понимал её правил.
За окном танцевал дождь. Вальсировал мелкой крошкой, подхваченный круговертью воздуха, шелестел по листве, мягкими брызгами изредка стучался в окно. Ван Ибо гладит выключатель. Затем жмёт. Свет гаснет, в комнате удлиняются тени от фонарей и софитов здания напротив. Но этого недостаточно. Ван Ибо снова щелкает по выключателю. Под потолком вспыхивают сразу же пять ламп и этого слишком много для сна. Как объяснить свое возвращение на диван? А с каких это пор его заботит объяснение? Блядство, как же бесит. Ибо порывисто забирает подушку и тонкое одеяло с кровати, выключает свет и выходит из кабинета, не придержав дверь — та хлопает. Ибо останавливается, зажмурившись, оборачивается на чёртову дверь, словно та может хлопнуть ещё раз. Семь ступенек вниз, ещё одна дверь. Эту Ибо придерживает. Пересечь основную комнату, дойти до зоны кухни, завернуть налево, еще один узкий коридор и да, дверь. Приоткрытая в этот раз. Мягкий свет — работает ночник. Ван Ибо останавливается, хоть прекрасно понимает — если Сяо Чжань не был в наушниках, то шаги его прекрасно слышал. Да что с ним такое? Бесит, как же бесит. Ибо прочищает горло синхронно с тем, как толкает дверь. Чжань медленно поворачивает голову, отвлекаясь от книги — конечно же он из тех, кто читает в постели. Сменил очки на другие, тонкую оправу на чёрную, подбил подушки, и теперь, вот, изучает что-то наверняка нудное и заумное. Ибо смотрит на обложку книги. И узнает в ней приключенческий роман, который не смог дочитать несколько месяцев назад — у него тогда украли рюкзак, и хоть самые важные пожитки он всегда носил на себе в сумке поменьше (главное — наличные деньги), всё-таки было обидно. Там были две книги (обе «позаимствованы» с книжного рынка), блокнот, огрызок от карандаша, старый mp3-плеер с наушниками, термос брата, немного лекарств и теплый свитер. Тоже брата.
За термос и свитер было даже обиднее, чем за книги. Ибо кивает на книжку:
— Интересно?
Чжань зачем-то поворачивает книгу, смотря на обложку, будто бы напоминая себе, что он читает. Надувает щеки, снова словно пятилетка, выдыхает «пока ещё не разобрался, я в самом начале».
Ван Ибо отчего-то решает ляпнуть:
— Король обезьян убедит главного героя, что его родители его подставили и на самом деле не любили, а просто использовали, потому что знали, что он — избранный.
Чжань прищуривается, затем вскидывает бровь:
— Спасибо за спойлер, засранец. Что такое? Тебе не нравится кровать?
Ван Ибо кривится, словно съел что-то кислое — слишком устал, чтобы прикидываться или что-то придумывать. Целый день уборка, потом таскали мусор, потом собирали эту кровать, матрас, снова уборка, он вымыл все полы! Он просто хочет спать, но не может, если…
— У тебя нигде нет ламп? Которые подходят для той настольной штуки? Или в этот твой… кульман.
Чжань отрицательно качает головой. Ван Ибо кивает, бросает «ясно», и собирается уходить на диван. Там можно было включить лампу вытяжки, плюс — телевизор и торшер. Идеальное комбо.
— Ты очень хочешь спать, Ван… Ибо?
Ибо понимает, что Чжань только что чуть было не сказал «Ванцзе». Заставляет отчего-то улыбнуться. Он оборачивается с вопросительным «м-м?». Чжань кивает на книгу на своих коленях:
— У меня еще слишком болят глаза со вчера… хоть я в очках весь день. Хотелось бы ещё почитать, но жжётся… почитаешь мне?
Ван Ибо склоняет голову набок, рассматривая уставшего господина Сяо с какой-то новой перспективы. Тянет: «Ты не можешь быть настолько старым». Чжань только пожимает плечами и… похлопывает по кровати рядом с собой. Ван Ибо смотрит взглядом, который должен был бы телепатически донести: «Я тебе что, щеночек, что ли?». Кажется, не получается. Потому что после Чжань даже сдвигается чуть левее, изменяя своей привычке спать ровно посередине этого ложе. Море подушек. Наверное, эта кровать ещё мягче, чем его новый матрас. Ван Ибо говорит «ну окей», идёт к кровати, бросая туда свои одеяло и подушку, плюхается рядом и сразу же стягивает книгу с чужих колен. Говорит: «Только на одну главу, где ты остановился?». Сяо Чжань улыбается.
И впервые Ибо видит, как его улыбка заставляет улыбнуться и глаза. Ибо невольно вспоминает то фото и сразу же опускает взгляд в книгу. Деловито листает страницы, кидает «а, ты из этих, кто карандашом все метит». Чжань фырчит в ответ на это, но никак не комментирует.
— Девяносто третья страница…
— Хорошо, гэ. Так. Сверху?
— Сверху.
— М-м… «Направляясь по тропинке к пещере, они вдруг заметили даоса, который появился из-за склона горы. В руках у него было стеклянное блюдо, а на блюде лежали две пилюли бессмертия»…
С постели надо уйти. На диван или на новую кровать в кабинете. Будить Ван Ибо совсем не хочется. По правде, как и уходить. Чжань не рискует забрать книгу, которая теперь покоится на груди Ибо, его храбрости хватает только на то, чтобы натянуть тонкое одеяло повыше. Кажется, это впервые, когда он видит, что Ибо уснул не свернувшись максимально компактно. Чжань мысленно корит себя, ведь давно заметил любовь своего гостя к свету, так сказать. Один раз он выключил и торшер, и лампу в вытяжке (от неё толку-то было вообще ноль), но утром обнаружил, что торшер горит вновь — Ибо проснулся и снова его включил. Видимо, спать в полной темноте для него нежелательно. А при таком свете, как в кабинете — уснуть не получится. Лампочки… наверное, где-то есть, но так сходу Чжань припомнить не мог. Ибо хватило на целую главу и даже на начало новой. Затем его речь становилась всё медленнее, он путался в словах, зачем-то тёр свои щеки и уши, бодрясь. Отклонял каждое предложение Чжаня закончить. Видимо, ему самому стало очень интересно…
Чжань вспоминает, что должен Ван Ибо дом. В плане, рисунок дома. Точно. Желание уснуть никак не появлялось, так что, может, и стоит заняться. Чжань аккуратно выбирается с постели, автоматически тянется к лампе на прикроватной тумбе, но останавливает себя, бросив короткий взгляд на Ибо. Его губы приоткрылись. Стало слышно, как тот сопит. Чжань всё-таки наклоняется и забирает книгу, кладёт её на подушку рядом. Хочется верить, сегодня кошмаров не будет. Чжань забирает смартфон с зарядки на комоде, в последний раз оборачивается на Ибо, прежде чем прикрыть за собой дверь. Есть ещё дела, которые стоит доделать, раз не спится.
Например, выбросить наконец-то ту коробку. С одеждой, карандашами, фотографиями, набросками, корешками билетов, воспоминаниями, надеждами, горечью и запахом лилий. Где-то на дне есть засушенный цветок. Он сорвал с похоронного венка, буквально за минуту до скандала. Захотелось почему-то не просто выбросить, а даже сжечь, но как такое устроить? Нет, просто выбросит. Уже хорошо. Пусть содержимое растащут бездомные, погрызут крысы, влажность Чунцина заставит сгнить картон и дерево, солнце — выцвести фотоснимки. Надо было поступить так ещё давно. Только почему-то всегда находились то отговорки, то просто не хватало сил. Раньше ещё казалось, что он вот-вот вернётся и они продолжат ругаться, как делали всегда.
Не способные ни примириться, ни избавиться друг от друга. Так что это решили за них, получается. Чжань находит коробку, подписанную именем, у самих дверей. Смотрит на неё некоторое время. Вскрывает. Вытаскивает фото в раме. И что ты улыбаешься, дурачьё? Чжань возвращается с фото к дивану, садится на край. Рассматривает Джеймса. Его точёный профиль, такой ещё называют «римским». Глаза под стать небу Нью-Йорка в тот день — голубые, почти что прозрачные. Ветер растрепал белокурые локоны. Через пару лет они станут темнее, у Джеймса появится бородка и привычка курить в их лофте, а не выходить хотя бы на балкон. Много вредных привычек. Чжань оставляет пустую рамку на диване, возвращается с фотографией к коробке. Рвёт её над ней, затем шарит ладонью по дну — находит смятую пачку сигарет, зажигалку, где, даст Небо, есть хоть немного жидкости, подхватывает коробку, упирая ту в бок и открывает дверь, набрав код.
Стягивает со столика у вешалки карточку, чтобы не пришлось звонить и будить Ван Ибо, босыми ногами вставляется в кроссовки для бега. Прогулка под моросящим дождём до мусорных баков, попытка понять, как рассортировать своё прошлое — в какой отсек стоит бросить карандаши, чёрт? И не побайдить, телефон остался в квартире. В итоге карандаши Сяо Чжань так и не выбрасывает, с горем пополам смекнув, куда рассовать всё остальное.
А ведь так хотелось просто швырнуть всё это на свалку и дело с концом…
Чжань переводит дух, курит старые сигареты, которые горчат ещё сильнее, чем он помнит. Чжань закашливается, тушит окурок о подошву. Снова зависает. Окурок летит в бак, маркированный под «прочие отходы». Через пару секунд туда же летит и вся пачка, а вот зажигалка остаётся в кармане штанов. Чжань идёт обратно. Два лестничных пролёта, пройтись, ещё одна лестница, завернуть направо, пройтись ещё. Приложить карточку к замку. Открыть дверь. Увидеть сонного Ван Ибо, закутанного в одеяло. Горит торшер, горит лампа в вытяжке. Чжань замирает, даже не дёргается, когда дверь за ним хлопает. Почему-то спрашивает шепотом:
— Ты чего проснулся?
Ибо мотает головой, принюхивается, затем делает «фе». Потом припечатывает:
— Ты же ушел. Я и проснулся. Пойду спать на диван.
Чжань качает головой, скидывая кроссовки, выйдя из странного оцепенения. Говорит:
— Возвращайся в постель, я сейчас буду работать. Завтра куплю лампы, и будет тебе ночник, а пока что — спи у меня.
Ван Ибо смотрит и снова от этого взгляда Чжань не знает, куда деваться. Это словно у Ибо просыпается какая-то функция «вижу насквозь», и ты чувствуешь это, но не можешь толком понять, что именно происходит. Ван Ибо вдруг усмехается и хрипло шепчет, прочищая горло:
— Избавился от тела?
— Что?
— Ты выбросил Джеймса.
— Да, я выбросил Джеймса. Иди спать, Ван Ибо.
Ибо кивает, расплываясь в такой довольной улыбке, что даже неловко. Наверное, он не осознаёт, что делает и как выглядит сейчас, иначе бы себе такое не позволил. Чжань качает головой, посмеиваясь. Кладёт на стол железный пенал, Ибо уже уходит, все ещё укутанный в одеяло, хоть холодом раньше не страдал. Чжань вдруг понимает, что это — его одеяло, а не то, которым он укрыл Ибо. Наверное, тот ворочался и распотрошил всю постель. Мягко хлопает дверь спальни. На часах — два ночи. Чжань проходит к плите и ставит чайник. На столе все ещё разбросаны чертежи текущего проекта. Чжань сгребает все это в одну кучу, выуживает чистый лист. Нарисует просто набросок. Чисто карандашами и пользуясь одной линейкой. Чайник начинает шипеть, Чжань наклоняется над листом и выводит остриём карандаша: «Дом, в котором можно жить», ровно посередине, на самом верху. Моросящий дождь за окном тает, позволяя расстелиться по воздуху мгле, пока что скрытой темнотой. Но стоит взойти солнцу, и станет ясно — Чунцин ожидает туман грязного воздуха, в котором тот будет купаться, пока ветра не разнесут непогоду до подножия гор.
Хороший день, чтобы остаться дома.
5. 北方玄武
х х х
V.
快乐有两大秘籍,
一是不把讨厌自己的人当人,
二是不想知道别人的闲事。
есть два секрета счастья.
первый — не относиться к людям,
которые ненавидят тебя, как к людям.
второй — не желать знать чужих сплетен.
Пекин,
тюрьма Циньчэн, 秦城帅坤家
Когда Ма выбрала его, чем руководствовалась?
Фэй помнит не так уж много. Помнит вонь кузова. Горелое масло, что-то кислое и сладковатое, словно сгнившие фрукты, и характерный запах мочи. Дети постарше молчали, смотря перед собой, не пытались противиться, когда малышня рефлекторно тянулась к ним, прибиваясь к бокам.
Никто не прижимал их к себе в ответ.
Фэй не был одним из них. Он выбрал дальний угол, противоположный тому, где справляли нужду девочки. Мальчикам было легче — в брезенте, натянутым на каркас, проделали щель. Было странно и немного боязно пихать туда свой причиндал, но нужда поджимала. Фэй жалел, что не мог увидеть свою струю, об этом он помнит тоже. Глупая досада, совсем не к месту, зато занимала голову. Струю наверняка сбивал поток ветра, кузов несся на огромной скорости. Никто не помышлял спрыгнуть. Уличные дети — не дураки. Хотя, если их все же поймали, может и дураки. Во всяком случае — недостаточно умные и быстрые, чтобы не быть здесь. Воду им давали регулярно, каждую стоянку. Те были раз в три часа, всегда в глухих местах.
Иногда им кидали пачки безвкусных вафель, пару пакетов паровых булок и яблоки.
Рыхлые, мелкие яблоки. Иногда кислые, скулы сводит. Фэй помнит — бывали дни и похуже.
Все по очереди делали пять-шесть глотков мутной воды из больших бутылей, пока двое взрослых держали их (детей) на мушке. Во рту надолго сохранялся сладкий привкус. С гнильцой.
Фэй насчитал всего семнадцать детей. Семь девочек и десять мальчиков. Тощих, грязных и молчаливых. Он пересчитывал всех каждый раз, когда накатывало беспокойство. Вонь была везде, к ней уже давно привыкли. Даже до кузова. Детей сгребали с улиц Нанкина, соскабливали как плесень, вырывали с корнем из своих убежищ. Крик и визг, мольба и бесконечные рыдания — это было в первый час. Затем умолкли. Когда Фэя вытянули из канализационной шахты, куда он старался уползти ужом под общую панику и шум, тот успел сунуть себе за резинку штанов пару пачек сухих листьев нори (одна дама дала ему их, он ничего не воровал, не воровал, ясно?), окаменелую булку и шоколадный батончик. Последнее — особенное сокровище. Хань-Фэй-из-воспоминания откидывается затылком о натянутый брезент и представляет, как будет вгрызаться в сладкую тянучку, когда выберется из этой передряги. Постоянное беспокойство о том, как бы кто не заметил его сокровище, отвлекало и каким-то образом бодрило.
Дарило ощущение надежды и спокойствия.
У него есть личный запас еды, это не какая-то мелочь. Фэй ненавидел голод.
Он всеми силами старался избавиться от него. Вот и весь скудный смысл жизни брошенной малолетки. Ему было восемь. Ма выбрала его.
Возможно, некий восторг от этого факта не ясен, Фэй и сам себе не мог объяснить это волнение, которое казалось таким приятным и неизведанным. Впервые в жизни от него не отмахнулись, не выгнали, не погнали прочь. Его выделили и выбрали.
Его наоборот забрали, а не бросили.
В тот момент Фэю было все равно, ради чего.
Он не был самым рослым или наоборот самым маленьким. Ничего примечательного.
Их выстроили в шеренгу глубокой ночью, в очередной глуши. Открытое пространство, где-то там кромка деревьев, глубокая чернота неба, ни единой звезды не видно. Пахло лесом, смолой и мазутом. Фэй помнит, что даже вдохнул полной грудью, ведь вонь отступила. Ма медленно шла вдоль их ряда, светила фонариком в лица, затягиваясь через раз тонкой самокруткой.
Фэй помнит, что подумал тогда. Подумал, что она красивая.
Ма была похожа на женщин с картинок, которые текстильные лавки и швейные мастерские клеили вместо обоев. Это все платье. Свет от фар отблескивал на темном шелке. Ма была бледной, её вытянутое лицо ничего не выражало, глаза казались глубокими, всезнающими. Тогда Фэй находил это завораживающим, а не отвратительным, он ведь не знал, что служит тому причиной. Высокие каблуки отбивали ритм медленных шагов по бетонной плите. Наверное, их привезли на старый аэродром. В третий раз, когда фонарик засветил в лицо Фэя, свет задержался на целых тридцать секунд дольше. Мучительно прекрасных секунд. На него смотрели, не отрываясь. Фэй почему-то запрещал себе жмуриться, заставлял глаза быть открытыми. Он смотрел ни на женщину, ни на мужчин, он смотрел в оставшуюся темноту, туда, подальше, куда не могли достать фары.
Он смотрел и считал.
Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь…
Хань Фэй впервые услышал голос своей наставницы, когда она сказала: «Беру его. Шесть сотен». Голос Ма был сиплым, шелестящим. Фэй так ни разу и не услышал, чтобы тот был громче.
Даже когда та царапала его лицо старческими пальцами. Многими годами позже.
Сиплый, прокуренный табаком и опиумом, голос. Некогда самой красивой женщины, что он видел.
На рынке и в магазинах взрослые обычно торгуются до пены изо рта, но мужчины лишь кивнули. Фэй не помнит их лиц. Не помнит лиц детей, с которыми разделил тот путь. Он помнит только то, как сначала несмело, а затем все увереннее, последовал за женщиной в платье из темного шелка.
В тот момент ему показалось, что в его жизни больше не будет голода. Для восьмилетки цифра в шесть сотен казалась немыслимой. Кто-то отдал за него такие деньги и вряд ли для того, чтобы пустить на органы. Фэй слышал от старших детей в заброшенных цехах, что при таком раскладе тебя отрубают сразу же. И не просыпаешься ты больше никогда.
Хань Фэя купили для чего-то другого.
Желудок урчал. Ма кивнула на машину. Та была какой-то низкой, длинной, такой же чёрной, как платье. Машина его заинтриговала, раньше он таких не видел.
Фэй сразу же почувствовал на себе всю грязь и ту-самую-вонь, всё то, что он так удачно игнорировал большую часть жизни. Он разозлился.
То ли на себя, то ли на всё сразу. Дернул ручку дверцы и сел на заднее сиденье.
Сейчас он думает, что Ма выбрала его, потому что видела: страх всегда вызывает в нем злость, а не трепет. Злость, а не трепет, понимаете?
В глазах Ван Ибо он увидел то же самое.
х х х
В том, чтобы быть заключенным именно в тюрьме Циньчэн, есть ряд плюсов.
Конечно, не всем так может показаться. Первым плюсом в ряду прочих — Хань Фэй ценил иронию этого места. Спроектированная Сяо Цзипином, она через годы стала его домом: уважаемого архитектора посадили за «измену родине». Он стал заключенным собственного творения.
Это «первая тюрьма Китая» в принципе богата на таких вот изменщиков. Во времена культурной революции именно здесь заключали «врагов народа» высокого сорта, так что в некотором роде — это честь, сидеть в этой тюрьме.
Хоть Хань Фэй никаким боком не был ни изменщиком государства, ни борцом за какую-то мнимую справедливость. Он просто просчитал не все риски, а затем принял единственно верное решение.
Зажигалка в его руках щелкает, в ней давно нет жидкости, так, пластмассовая игрушка для мелкой моторики. Хань Фэю в этих стенах прощается многое, позволяется немало, а также он единственный на весь корпус, кто не ходит на принудительные работы ни в цех, ни в поля.
Это вызывает множество вопросов и определенный пиетет вокруг его фигуры. С ним никто не связывается, зато легенды и слухи вокруг плодятся. Правдивый из них только один: в начале своего срока Хань Фэй действительно разбил в мясо лицо Головореза Хэнаня. Тот качал свои права и почувствовал угрозу. В чем-то тот был прав, но Хань Фэй не имел в планах сбор вокруг себя какой-то шайки.
В его планах были максимально тихая отсидка, поиск малого и новая жизнь подальше от прошлого.
Всего-то.
Грохот стальных дверей, грохот замков, грохот решетки, затем грохот отъезжающей панели.
— Заключенный шесть двадцать девять три. На выход. Прибыл адвокат Ли.
Хань Фэй не спешит с тем, чтобы отлипнуть спиной от холодной стены камеры. В ней как всегда тускло, он так привык к такому освещению, что резкий свет коридоров его раздражает. Фэй предпочитает отбывать большую часть времени в своей одиночной камере и даже через раз пропускает прогулки. Медитирует. Читает. Пишет. Качается. Играется с зажигалкой. Иногда берет смены в швейном цеху, иногда — вырезает партию нард, костей для маджонга или шахмат для продажи. Идет пятый год его заключения, и за это время то, что можно было бы назвать разговором, случалось четыре раза. Потому что Хань Фэй сказал звонить ему только один раз в год, так, чтобы звонок нельзя было отследить, и не более, чем на тридцать минут.
Чтобы он знал — малой в порядке. Тихо отсидеть, тихо выйти.
В его планах не было никакого адвоката Ли.
Пока они идут по коридорам, Фэй размышляет, ожидая следующее: этот Ли какой-нибудь жирный свинопас с лысиной, которому нужно добрать дел на государственной службе, у него проседает план по социалке, где адвокаты обязаны помогать нищим и брошенным, и тот тыкнул в список и попал на него. Бессмысленная трата времени. Фэй смотрит в широкую спину надзирателя, тот не большого ума, двигается грузно, но считает себя явно значимым. Такую тушу на удивление легко обезвредить и оглушить, именно из-за его массы. Фэй изредка поворачивает голову, чтобы мазнуть взглядом по узкой линии «окон» под потолком, откуда сочится свет.
Сейчас зима. В Пекине холодно. Наверняка голые ветви деревьев стягивает книзу тяжесть плодов хурмы. Почему он думает об этом?
Хурма росла вокруг Дома. Он собирал ее и угощал младших. Каждому по кусочку.
Ван Ибо доставалось два, за что другие дети пытались его побить. Фэй делал это специально, выделяя его. Чтобы посмотреть, как тот будет себя вести. Малой дал отпор, а потом отказывался от второй дольки, тут же предлагая дать дополнительную кому-то из детей.
Называл имя и то, почему он считает, тот заслужил.
«Вымыл полы в беседках, Хань-гэгэ, и это с температурой, дайте ему, Хань-гэгэ, будет честно».
Ван Ибо ни разу не обозлился. Он даже не злился на Ма. Ван Ибо злился, если что-то _не честно.
«Переговорная» — унылое помещение. Нет, тюрьма — царство уныния, это понятно, но в этом месте этот факт ощущался особенно ярко. Длинная лампа под потолком, два торшера по углам, стальной стол к которому приварен стул заключенного, зато «стул для гостей» — деревянный и массивный, с обитой вишневой кожей спинкой. Он пуст, когда Хань Фэя вводят в комнату. Он садится после приказа. Ждет, когда его наручники пристегнут к крючку на столе. Надзиратель остается стоять у дверей, что ведут дальше, в тюремные коридоры. Другая же дверь, за которой скрывается административная часть, не имеет ни решетки, ни дополнительного заслона. Она распахивается с треском и в переговорную вваливается адвокат Ли.
Первое, о чем думает Хань Фэй — лучше бы тот был жирным, лысым свинопасом в сером стандартном костюме. Серой крысой в серой системе.
Второе, о чем думает Хань Фэй: это катастрофа.
Катастрофа говорит: «Я припозднился, но ничего, мне вас отдали на любой срок, так удобно, правда?».
Катастрофа отодвигает массивный стул с визгом ножек по плитке, плюхается на него, принимаясь копаться в кожаной сумке, которой до этого бахнул по столу, и продолжает: «Господин Хань… Хань Фэй, так, посмотрим… О, я забыл о вежливости. Я… потерял маркер? Черт. Так вот. Я — адвокат Ли. Ли Хенг. Меня наняли люди, желающие вытащить вас пораньше, вы знаете, мир так… о, вот маркер! Изменился за последние годы… Не могу говорить более открыто, но беспокоиться вам не о чем. Есть какие-то жалобы, кстати говоря?»
Катастрофа поднимает на него взгляд, глаза заманивают в зеленое болото, такое благородное в тандеме с медью волос. Катастрофа трактует его молчание по-своему и понижает голос: «Вам правда не о чем бояться, ветра сменились, верные всегда остаются верными, удалось завершить начатое, так что вас очень ждут. Это не мое дело, я просто нанятый работник, но, честно говоря, восхищаюсь. Подумываю, может, к вам податься на постоянной основе, как считаете? Ну, сначала вас вытащим, конечно. Извините, а можно мне устроить кофе тут? И господину Ханю тоже не помешало бы взбодриться, да? Погода такая, все сонные амебы, ужас. Да, позовите или там… как вы делаете, сообщение напишите, очень нужен кофе. Хоть тут он и редкая дрянь, да? Да.
Так, ваша папка…».
Тихая, спокойная жизнь подальше от прошлого. Обычное, адекватное будущее для оболтуса, скучное и банальное. Своя автомастерская, не особо приносящая прибыль.
Что там еще себе Хань Фэй прикидывал? Все померкло.
Катастрофа улыбнулась и открыла папку с его делом.
х х х
Чунцин,
район Юйчжун, 渝中
На пачке было написано «organic pops». Смутные познания английского позволили понять, что это нечто органическое, а картинка не оставила шанса сомнениям — Ибо держал в руках пачку леденцов. Судя по оберткам лишь двух цветов, — зеленого и красного, — Ибо мог порадовать себя вкусом манго с чили или же вкусом клубники. Он выбирает последнее, вскрывая пакетик. Ноутбук на низком столике («это мой старый, я все отформатировал, можешь пользоваться»), только что пискнул, говоря о входящем сообщении на форуме.
Ибо не поспешил к нему, занятый тем, что сдергивал обертку с круглого леденца. В лофте тихо.
Это трещание кажется настолько неественным в его стенах. Да и в принципе трудно представить Сяо Чжаня увлекающегося леденцами. Почему-то. Ко внутренностям легким ознобом подбирается осознание, что эта пачка леденцов в самом дальном углу шкафа, могла валяться тут более трех лет нетронутой. Ван Ибо морщится и надкусывает леденец пару раз, не жалея зубы, а саму пачку отбрасывает на столешницу. Та скользит по ней и чуть было не падает в раковину.
Сколько еще вещей мертвеца осталось в этом доме?
Нет, Ибо не обязан ничего с этим делать.
Но его это раздражает, что пиздец.
Ван Ибо сует леденец за щеку, придерживая палочку, плетется обратно к дивану. Юзер «озорная лисичка8231» пишет, что знает, где можно позвонить так, чтобы никто тебя не засек. Сбрасывает адрес. Ибо вводит его вручную, не клацая по ссылке. Карта обещает, что путь обойдется в двадцать четыре минуты на машине, или же в три с половиной часа пешком. Ван Ибо ничего не отвечает, только лайкает сообщение «лисички», и закрывает ноутбук. Сегодня хорошая погода для прогулки. Зачем тратиться. Да и тут делать нечего.
Сегодня вторник — Сяо Чжань вернется поздно.
Шла четвертая неделя этого странного сожительства. Ван Ибо уловил нечто вроде графика. Понедельник — Сяо Чжань проводит в бюро половину рабочего дня, всего-то до полудня. Вторник — торчит в бюро до поздней ночи. Среда — стандартный рабочий день. Четверг — день для встреч и разъездов. Пятница — стандартный или день-до-поздна. Суббота — очередной день для встреч, только каких-то не таких, как по четвергам. Воскресенье — выходной.
В этот день Сяо Чжань обычно любит смотаться куда-то подальше и желательно поужинать хого. Таким острым, что Ван Ибо видел звезды в глазах, и потом очень долго морально готовился к походу в туалет. А все потому что Сяо Чжань умудрился взять его на понт, при этом извечно макая кусочки мяса и овощей вовсе не в тот, густой и масляный, самый острой бульон, а в нечто попроще и пожиже. Ван Ибо мало выходил из квартиры, так что радовался любой деятельности вне ее стен. Хоть никто его не ограничивал. Ван Ибо почему-то самому не хотелось уходить далеко.
Вопрос документов все еще висел в воздухе, как и разговоры об абстрактном будущем, вместе с распечатанным пактом о сожительстве на холодильнике. Ибо недавно измазал его, когда ждал чайник, перечитывал и возил пальцем по перечню пунктов, только потом заметив, что оставил на нем следы от шоколада. Выглядело это не очень, так что Ибо выбросил этот пакт, распечатал новый и повесил так же ровненько под магниты в виде цветов гибискуса. Очень странных гибискусов. Явно самодельных и купленных на какой-то сувенирной раскладке. Не хотелось и в этом видеть след мертвеца, но опять же, если бы Сяо Чжань покупал магниты, разве он бы выбрал такую безвкусицу? Если уж гибискусы, то какие-то… красивые. А не вяло-чахоточные.
Хватит думать о магнитах, пакте сожительства, мертвом бывшем этого странного архитектора и в целом об этом странном архитекторе. Ван Ибо говорил себе это каждый день в разных вариациях.
А делал совершенно другое. В этом было стыдно признаться самому себе, и непривычный к самообману, Ибо пытался делать вид, что ничего не происходит.
Из-за чего напряжение только копилось и выливалось в действия.
Например, Ван Ибо не нравилось засыпать в «его комнате».
Он начинал размышлять, как тут жил James (читать это имя со всем возможным ядом в голосе). Как сидел за столом у окна, читал книги, работал, дремал в этом мягком кресле. Дошло до того, что Ибо начал представлять, как этот James трахал Сяо Чжаня в этом самом кабинете. На столе у окна, или упирая в стену, или в том самом мягком кресле. Картинка в голову приходила именно такой. Возможно потому что James был накаченнее Сяо Чжаня, шире в плечах, почти что выше, и в целом производил впечатление какого-то сраного австралийца-серфера с белозубой улыбкой. Да, Ибо его набайдил, да, он просмотрел с ним кучу фотографий и обосрал каждую, иногда даже вслух.
Ибо не был бы удивлен, если бы тот правда умел кататься на серфе. От этой мысли собственное желание когда-то встать на доску неумолимо гасло. Либо разгоралось с новой силой и в другой перспективе — он бы был куда лучше, ясно?
Затем мысли перескакивали на то, что, а вдруг, это у Сяо Чжаня такой типаж вообще?
Западает на блондинистых утырков-европейцев?
И потому ему нравилось, что у Ибо — платиновые волосы?!
Хорошо, что он перекрасился в черный. Нехрен. Что именно нехрен — не так важно. Просто нехрен.
Ван Ибо катался на адском роллеркостере эмоций. Никогда прежде он не испытывал столько одновременно и при этом не жаждал, чтобы это все прекратилось к чертовой матери. У него и без этого есть реальные дела, реальные проблемы, реальные цели и прочее, прочее, прочее.
Вот сейчас он ими и займется. С братом хотелось поговорить как никогда очень сильно. Да и дата уже подходит — в прошлый раз им удалось поговорить как раз после Нового года. Да, тот, кстати, прошел. Сяо Чжань заказал им кучу жареной курочки из KFC, подарил свой «старый, отформатированный ноутбук», только почему-то забыл снять с него пленку в парочке мест. Оставалось два варианта: либо он действительно забыл, либо ноутбук был новый.
Всего лишь прошлогодней моделью mac. Уморительно.
Впереди маячил Чунь цзе праздник весны — китайский новый год, что было куда серьезнее. И дышало драконом.
И да, из-за того, что ему не нравилось засыпать в том кабинете, он уже как четвертую неделю читал Сяо Чжаню книжки перед сном и засыпал в его спальне, маскируя этот унизительный беспредел «заботой о старческом зрении».
Он знал, что это пиздец.
Сяо Чжань знал тоже, но оба делали вид, что ничего не происходит.
Нет второго одеяла, нет еще одной подушки. Нет нового аромата на постельном белье, вещах и полотенце — Ибо купил себе другие духи, другой лосьон, другой гель для душа и весь пропах мускатным орехом, кедром и мятой. В сочетании с привычным запахом Сяо Чжаня, получалось еще… вкуснее. Фиаско. Он ведь хотел, чтобы его запах перебил все остальное, а не дополнил.
И с чего он вдруг вообще стал настолько восприимчив к запахам?
Ему никогда так сильно не нравилось то, как пахнет другой человек.
Он об этом раньше даже не думал.
Наверное, он рехнулся.
Сплошное, мать его, фиаско.
Они спали вместе. Ели вместе. Жили вместе.
Ван Ибо набрал слово «временно» в заметках телефона, сделал скрин и поставил его на заставку.
х х х
Банка с красным перцем и арахисом, вперемешку с щедрой жменей кунжута, была гордостью Сяо Бая. Потому что он сделал ее сам по рецепту своей бабули и теперь каждый в бюро должен был оценить его талант. Секретарь ловил всех, словно заправский паук, протягивал банку и вручал палочки, веля пробовать. Пока что никто не умер, все жевали и благодарили, а в туалетах бюро не наблюдалось ни рвотных, ни каких-либо других позывов.
Осталась последняя жертва.
Жертва, которая усердно работала, с утра навела на всех страху (из-за своего паршивого настроения, не иначе, дела у бюро шли шикарно), а теперь забаррикодировалась в своем кабинете и с постным лицом пялилась в экран. Сяо Бай понаблюдал за этим через стеклянные панели, перекинул банку с перчиками из правой руки в левую (заранее сунув внутрь очередные палочки из кафетерия внизу), и смело толкнул дверь кабинета, сопровождая это громким «дин-дон, босс!». Сяо Чжань нехотя поднял взгляд от экрана. Сяо Бая это не смутило. Секретарь только широко улыбнулся, тряхнув своими новыми дредами (кислотно-зеленый смешался с пурпурным, Бай утверждал, что вдохновился артом на какого-то дракона, а драконы сейчас — тренд), и со стуком поставил баночку на стол. Аккурат рядом с мышкой, которую сейчас спазматично сжимали пальцы Сяо Чжаня. Тот вскинул бровь, опуская взгляд на перцы:
— Это что?
— Перекус, босс. Попробуй. Серьезно. Может это заставит твое лицо не выглядеть так, будто ты весь день сырых червей ешь. Или нюхаешь вонючий тофу.
Сяо Чжань никак не комментирует все эти заявления, но вкладки в браузере сворачивает. Затем откидывается на спинку кресла и снова смотрит на Бая. Тот упрямее осла, только пододвигает банку поближе и говорит одними губами «ешь». Чжань играет в гляделки где-то с минуту, сдается и все-таки тянется к банке. Вытаскивает из нее палочки, подхватывает самый мелкий перец, сует в рот и жует. Сяо Бай расцветает в улыбке и прислоняется боком к столу шефа, сложив руки на груди. Спустя несколько жевательных движений челюстью Сяо Чжаня, который снова впал в состояние задумчивой инфузории туфельки (безжизненный взгляд в даль), секретарь интересуется:
— Как там твой протеже? Хань Ванцзе? Ты мне так и не рассказал правду, я могу начать обижаться.
Чжань достает еще перчик, в этот раз облепленный арахисом, сует в рот. Жует. Все еще смотрит в одну точку и говорит:
— Я снял его с моста. Привез домой. Оставил у себя жить. И мы живем вместе уже больше… уже месяц, точно. Месяц точно есть.
Сяо Бай продолжает смотреть на босса. Босс продолжает жевать. Бай прищуривается, отлипая от стола и наклоняясь к шефу. Тянется за банкой, отбирая ее. Чжань провожает перчики взглядом, палочки остаются при нем. Бай уточняет:
— Прости, я не ослышался? Ты подобрал какого-то пацана с моста, привез к себе, и теперь он с тобой живет?
Чжань пожимает плечами, вскидывает руку, пытаясь вручить Баю палочки обратно. Тот все еще смотрит на него, и забирает те не сразу. Чжань продолжает, уже смотря на секретаря, пытаясь понять по его лицу, насколько это выглядит странно и хреново. Пока что, кажется, все очень странно и очень хреново.
— Он стоял на мосту, перелез через заграждение, вроде как пытался прыгнуть. Вроде как, потому что он уже несколько раз говорил мне, что на самом деле прыгать не хотел. Не знаю. Жить с ним — просто. И нет, он ничем не болеет и не… в общем, он нормальный.
Сяо Бай издает нечто среднее между неверящим «м-м» и возмущенным фырканьем, замечает, сунув перец себе в рот и облизав палочки:
— Тебе не кажется, что попытка самоубийства и «он нормальный» в одном предложении, не смотря на то, что этот пацан просто согласился жить с неизвестным ему мужиком, немного не созвучны? Ты-то понятно, давно двинутый. Если подумать, я даже не особо удивлен. Но, все лучше, чем твои запои и… ладно. И что дальше? Ты подобрал мальчишку, как котенка, но он же не котенок. Кто он вообще?
Сяо Чжань как-то странно усмехается и снова смотрит в экран. Бай вздыхает, отходя от стола. Все это пахнет большими проблемами, но пока что… пока что вроде все тихо. Сяо Бай собирается выйти из кабинета и добавляет напоследок:
— Ты все еще можешь мне все рассказывать, босс Сяо! Не смей скрывать от Бай-Бая такие страсти! Две головы лучше, чем…
— Знаю, Бай, знаю.
Сяо Бай потряхивает банкой, и закрывает за собой дверь, не скрывая тяжкого, драматичного вздоха. Сяо Чжань открывает очередную вкладку. Смотрит на пустую строку поиска. Он не может ни на чем сосредоточиться, потому что думает только о том, что сейчас может делать Ван Ибо.
И его уже который день преследуют «фантомные объятия». Это когда вы спите с кем-то всю ночь, и этот кто-то обнимает вас, а затем вам приходится жить с тенью этого теплого чувства остаток суток. Сяо Чжань не знает, что с этим делать. Упорно просыпается раньше, затем делает вид, что спал на диване. А если не успел «сделать вид» — говорит, что спал в кабинете, если этот вопрос вообще возникает или виснет в воздухе некой недосказанностью. Чжань знает, что Ибо не верит в это, конечно. Но подыгрывает. Признать вслух то, что им удобно просто вместе спать… сложно?
А остальное, блядь, не сложно.
Сяо Чжань отчего-то на себя злится. Открывает ArchiCAD, смотрит на проект дома. Дома, в котором можно жить. Он так увлекся, что с бумаги этот дом перекочевал в программу. Еще немного и Сяо Чжань решит склеить макет. Но и тогда, наверное, еще не решится показать его Ван Ибо.
На мысли об этом телефон звонит. Неизвестный номер.
Сяо Чжань медлит, но все-таки берет трубку.
— Добрый день, господин Сяо Чжань? Вас беспокоит офицер полиции Бо Люцзунь. Дело в том, что мы обнаружили неизвестного с очевидно вашим телефоном, который оплачивал им покупки. Отказывается говорить, кто он, утверждает, что вы в курсе… личность не удается идентифицировать, но…
— Это мой племянник. В каком вы отделении? Адрес, скажите, пожалуйста. Он не в камере?
— О, нет… вы в курсе, что так делать нельзя? Нужно было оформить…
— Да-да, конечно, простите, офицер. Я сейчас подъеду, просто назовите адрес, мы во всем разберемся.
Сяо Чжань уже снимает пиджак со спинки кресла, пока офицер диктует ему адрес. Удается коряво записать его на стикере. Чжань сбрасывает вызов, вылетая из кабинета. Сяо Бай провожает его возгласом: «Что случилось?!». Чуть не давится, в банке осталось всего ничего.
Сяо Чжань не придумывает ничего лучше, чем крикнуть в ответ: «Это все твои перцы!».
Но почему-то заворачивает не к туалетам, а к лифту.
Сяо Бай с сомнением пялится ему в след. Вздыхает. Отставляет банку. И возвращается к работе. Когда босс немножко сходит с ума, нужно работать усерднее обычного. Хоть плечи Сяо Бая и хрупкие, он выдержит. Проходит три минуты. Бай снова стягивает баночку с перцами.
Только доест, все-таки.
6. 西方白虎
х х х
VI.
我所爱之人,如江河并海,烟波永寂。
— люди, которых я люблю, подобны рекам и морям;
волны дыма в вечной тишине.
Единственная существующая в мире справедливость — это симметрия.
Увидеть ее довольно просто, стоит лишь оглянуться вокруг. Симметрии подвластно многое, симметрия — ключ к красоте, умиротворение для беспокойного мозга.
Гармония. Баланс. Все эти понятия близки друг с другом, и симметрия — их основа.
Чжань искренне считал, что достичь справедливости возможно лишь в архитектуре.
И когда двумя годами ранее сдавал государственный проект обновленных полицейских участков в нескольких районах Чунцина, исходил из этого.
Прочно вмонтированные в землю, врытые в мясистые бока холмов бетонные квадраты, словно удерживающие форму благодаря металлическим колоннам по углам, со стеклянными, прозрачными сферами в роли крыш, всего в три этажа ростом. Символизировали связь с землей, как с народом, и надежду на прозрачность Неба, как символ того, что все деяния внутри — просматриваются свыше.
Чжань уже не помнит, что именно расписал в презентации, но воды с философией там было много. Сказать по правде — он просто хотел, чтобы здания отделов полиции стали меньше походить на бездушные серые коробки, в которых консервируются страх и отчаяние. Чтобы в них поселилась надежда. Ведь не всегда обращения туда заканчиваются горем.
Воров все-таки ловят, насильников судят, коррупционеров кидают на пожизненный. Так ведь?
Ему наивно хотелось в это верить.
В последний раз он бывал здесь как раз в тот день, когда кто-то из чиновников разрезал ленту и отпускал красные шарики в воздух в честь открытия. С каким-то странным чувством удовлетворения, Чжань заметил, что в отличие от измазанных мхом жилых домов по округе, «его полицейский участок» выглядит почти что так же свежо и чисто, как в первые дни. Он не зря надавил в вопросе закупок особых смесей для строительства, убедил заключить сделку с таиландским производством.
За здание хоть не стыдно, ведь кто будет разбираться в качестве исполнения, если на строение смотрят без глубоких мыслей и в лучшем случае думают про архитектора, а вовсе не про бригаду работников; архитектор должен следить за объектом до последней плитки…
Стеклянные двери разъезжаются и съезжаются, но прежде чем дойти до них — нужно пройти пункт пропуска.
Чжань наконец-то хлопает дверцей машины, ставит ту на сигнализацию под бодрый писк, и направляется к будке. Ее стандартный, дешевый вид, со всей этой пластмассовой облицовкой и нелепо ярким красным флагом, вводит в уныние. Чжань немного медлит. Возле пункта пропуска пышно цветет слива. Сладкое послевкусие цветения разливается по улочке, составляя конкуренцию тяжелому и сытному запаху жареной выпечки. Вдох. Выдох.
Вежливость, спокойствие, понимание, тысяча извинений. Таков план.
Чжань подходит к окошку. Пластмасса натужно трещит, когда его распахивают перед ним. Приходится чуть наклониться. Чжань вежливо улыбается. Чжань объясняет цель визита в двух словах. Чжань ждет, когда молоденький сотрудник в форме на размер больше и с раздражением от бритья над губой, наберет «старших». Проходит еще десять минут возни.
Данные Сяо Чжаня вводят в компьютер, с его телефона считывают личный QR-код, затем он перекидывает электронную подпись, в очередной раз подтверждая свою личность и отказываясь от претензий «по делу» (какое к черту «дело» вообще?), и только после этого турникет прокручивается. Начищенный металл, скрежет и писк.
Новые технологии на фоне этого почти что раритетного инструмента кажутся насмешкой.
Сяо Чжань подмечает это, чтобы тут же забыть.
Стеклянные двери разъезжаются. Пол под мрамор начищен до бликов — слепящие от ламп, сочно персиковые — от лучей закатного солнца. Чжань пересекает холл, идет к стойке регистрации, сказать полученный номер. Прозрачные стены отделов явно натирали не менее усердно, кажется, будто бы между перегородками — воздух. Чжань поворачивает голову, чтобы увидеть за одной из них Ван Ибо. Тот сидит в наручниках, но руки его заняты — он умудряется складывать самолетик из листа А4. Ребенок. Сяо Чжань смотрит на него, ловя момент, когда точно знает — тот не подозревает об этом. В голове пусто. Пальцы Ван Ибо сгибают бумагу, расправляют, сгибают снова.
— … прямо и направо, господин Сяо Чжань.
Чжань с опозданием «отлипает» от созерцания Ван Ибо и неловко улыбается девушке. Миловидное лицо под слоем матового тонального крема в желании казаться бледнее. Маленький рот кораллового оттенка помады и попытка улыбнуться так, чтобы Чжань заметил в девушке что-то еще. Чжань замечает только то, что на ее форме, слева от бейджика, белое пятнышко. Может, корректор? Чжань кивает, улыбается снова с очередным «спасибо». Ему вовсе не нужно говорить, куда идти. Он видит.
Ван Ибо поднимает голову, лениво мажет взглядом по отделу, поворачивает чуть левее и упирается взглядом в Сяо Чжаня. Тот продолжает идти и уже берется за ручку двери, вскидывая брови, мол, я тебя вижу, засранец. Ван Ибо усмехается краем рта.
Бумажный самолётик набирает высоту и летит аккурат в стеклянную дверь.
х х х
Закат солнца прошел практически незамеченным. Ибо отдал ему должное, будучи единственным, кто наблюдал за полосами оранжевого света по полу и стенам, подмечал оттенок — кожа Сяо Чжаня становилась на вид теплее и приходило неожиданное понимание, что его можно было бы назвать немного смуглым, — Ибо даже не вскинул брови, когда Чжань с чего-то решил тихим шепотом намекнуть, что «его племянник не от мира сего». Идиому использовал. Что-то про «проклятие ветром». Кажется, так было принято называть тех, кто склонен к аутизму.
Все потому что Ибо молчал. Он молчал, когда его все-таки повалили на бетонную плитку тротуара, молчал и ухмылялся, когда вели в участок. Когда трясли телефоном перед лицом, в сотый раз показывали на экране компьютера, что он — не владелец ни этого аккаунта вичата, ни, естественно, счета в банке. С которого он так бодро потратил триста юаней неизвестно куда (такие игровые автоматы нигде не зарегистрированы!), а затем еще два раза по пятьдесят (все там же). И один раз — десять. Вот на последнем его и поймали. Благодаря бдительной пожилой женщине, которая заметила его экран. Там мелькнуло вовсе не его лицо при прохождении оплаты.
Бодрое старшее поколение, всегда на страже порядка…
Ван Ибо наблюдал за всем, но был далек от «здесь и сейчас». Он все еще находился в разговоре с братом, за тридцать семь минут которого заплатил четыреста юаней. К слову сказать, он не останется Сяо Чжаню должным. Ибо вел список всех покупок, транзакций, и даже делил счета за еду на два. В его планах было вернуть все до последнего цзяо. В свое время. Подарки, а этим словом Сяо Чжань бросался слишком часто, Ибо записывал тоже. Чтобы понимать цену и… ну, подарить что-нибудь в ответ не менее дорогое. Когда-нибудь. Исключительно ради чувства денежного баланса и крепкого достоинства. Никакой другой причины.
Наруничики расстегивают, когда Чжань, доверительно наклонившись к офицеру, громким шепотом начинает вещать что-то про сложное детство, потерю близких, избиение в школе. На этом моменте засмеяться хочется слишком сильно, так что Ибо прочищает горло и отворачивается. Солнце ушло. В отделении включаются лампы. Свет становится искусственным, мертвым, холодным. Напрягает глаза. Выбеливает стены и лица. Чжань уставший. Тени под его глазами кажутся более четкими. Ибо размышляет, как выглядит сам. Потирает кисти рук. Кто-то снова порывается предложить снять его отпечатки пальцев, вдруг система уже «развисла» и те все-таки найдутся, вместе с его личностью.
Тут Сяо Чжань вскидывается и, извинившись заранее, говорит куда жестче: «Мы провели здесь уже более трех часов, дела по сути нет, зачем вам личность моего племянника?!». Какой блядски красивый и абсурдный цирк. Ван Ибо чувствует, как нечто вроде глубоко удовлетворения, тлеет на уровне ребер. Потому что это он затянул Сяо Чжаня в этот бред, и как бы там ни было, тот ради него так старается и несет всю эту чушь.
Какая там самая престижная награда за актерское мастерство?
«Золотой петух»? Несите два.
Старший офицер начинает успокаивать Сяо Чжаня, зыркая на младшего сотрудника. Всем уже известно, что господин Сяо Чжань — уважаемый архитектор. А это недоразумение уже исчерпало себя. Прощаются с ними на доброжелательной ноте. В конце которой Ибо в шутку отдает честь и ляпает «у вас отвратительные усы, со всем уважением, сбрейте». Он чувствует, как Сяо Чжань сжимает предплечье до боли, утягивая его к стеклянной двери. Извиняется за беспокойство (раз в сотый) и обещает прислать ту самую выпечку, о которой тоже успел наплести всему отделу. «Ведь из-за моего племянника вы пропустили второй обед, так жаль!». Чжань тащит его и по холлу, волочит чуть ли не за шкирку к машине. Движение резкое, когда он отпускает. Ибо не пытается вырваться все это время, даже не шипит. Лениво опирается о бок машины и потирает руку.
Ветровка, которую он накинул, когда выходил, утеряна. Когда его схватили, догнав в одном из переулков, он вывернулся из хватки, скинув ее. На коже расцветают красным следы пальцев Чжаня. Вся его вежливость, насмешливость к ситуации, попытки прикинуться дурачком и прочий сладкий сироп, который он с упоением лил в уши полиции, исчезает. Он смотрит на Ибо так, будто бы мысленно уже размазал того по асфальту. Ибо ожидает вопросов на тип «что ты делаешь в этом районе?», «на что ты потратил те деньги?», «какого хрена это было?».
Но Чжань смотрит на него и спрашивает:
— Ты пошел шляться в одной футболке?
Шляться. Ибо глупо моргает пару раз, заглядывает за плечо Чжаня, смотря на полицейский участок. Тот усатый офицер вышел покурить, вовсе не стесняясь знака запрета. Кто вообще обращает на них внимание, особенно если на тебе форма. Ибо снова смотрит на Чжаня и пожимает плечами:
— Почему? Я был в ветровке. Сегодня сыро. Кто-то сдернул ее с меня. Когда паковали.
Чжань смотрит на него пару секунд, кивает чему-то в своей голове, затем обходит машину, бросая «садись, поехали». Ибо провожает его взглядом. Садится уже после хлопка двери. Свою он закрывает куда тише и аккуратнее. С машинами так ведь нельзя. Сяо Чжань какой-то прям садист. Так и подмывает спросить «чем тебе машина виновата?», но Ибо почему-то решает не рисковать и не бесить Чжаня еще больше.
Разговоры Ван Ибо с братом никогда не были особо содержательными. Ибо говорил, что его «базовые потребности» удовлетворены, что значило: у него есть, что кушать, где ночевать и он не болеет. Иногда он намекал, где именно находится. Например в этом разговоре пожаловался на насморк из-за высокой влажности, на что получил «надо есть больше острого, А-Бо» и «разумный выбор на зиму». Похвала от старшего — многое значит. Особенно если ты не видел его вот уже пять лет, возмужал и возмудел без него, и по правде до сих пор не понимаешь, хорошо ли у тебя получается. Нет, если его до сих пор не нашли, и он не сдох в канаве, определенно хорошо, но ведь есть нюансы.
Этот разговор не должен был ничем отличаться. Ибо не хотел вносить лишнее беспокойство, намекать на свое «сожительство», да и как бы брат мог ему помочь, если Ибо даже не может сформулировать свой запрос? Но все пошло не привычным образом после стандартного вопроса «ничего не изменилось?». Ибо имел в виду — срок. Брату оставалось сидеть еще три года. Не хотелось думать, что его упекут еще на парочку, такой сценарий мог случится, но пока поводов для этого, вроде как, не было. Хань-гэ должен был ответить «все по-старому». Вместо этого Ибо услышал: «Сегодня на завтрак я ел хурму. Слишком сладкая. Может, потому что давно не ел».
Хурму в тюрьмах не дают. Рацион скудный: пустой рис, тушеные овощи, мясо раз в неделю, и «отходный чай» — пакетированый и дешевый. Какая к хренам хурма? Ее могли принести только извне. Баловать Хань Фэя в тюрьме не за что. Ибо напрягся. Хань Фэй продолжил. Его голос был хриплым, словно простуженным, еще ниже, чем Ибо помнил. Он сказал: «Ее будут приносить через день. Если не попрошу другого. Возможно, это не продлится и больше года, и я смогу купить хурму и тебе, А-Бо. Но тогда придется играть в старые игры. Знаю, что обещал тебе другое. Если ты против, скажи. Оставлю по-старому». Ибо не был гением шифров и намеков, но тут понять расклад оказалось легко. Кто-то приходит к Хань Фэю через день и этот кто-то может сделать так, что тот выйдет куда раньше. Кто может быть в таком заинтересован? Старые друзья или старые враги? Разве это не одно и тоже? Старая жизнь… Да какая разница. Если есть шанс вытащить брата раньше, ведь никогда не знаешь, когда удача повернется к тебе жопой, надо его использовать. Относительно безопасная жизнь в тюрьме может обернуться адом и смертью в лучшем случае в любой момент. Ибо не думал долго, когда ответил: «Не против. Конечно же я не против, Хань-гэ, я буду только рад. Я буду счастлив». Он действительно будет счастлив. Но когда он вышел из загаженного компьютерного клуба, все еще ощущая кислый запах энергетиков и почему-то жареной кукурузы, он неожиданно задался другим вопросом. Старые игры и старая жизнь. В этом абсолютно точно нет места такому, как Сяо Чжань. И всему их быту. Как только брат выйдет, Ибо… что, Ибо?
Ибо станет тем, кем всегда и был. Тем, кем его воспитывали. В идеале нужно будет затереть даже тень следа его существования в жизни Сяо Чжаня, ведь мало ли… он не хочет портить ему жизнь. Хоть та и не блещет светлыми красками.
Ибо задумался крепко. Чжань объезжал пробки, просачиваясь по узким улицам, фары высвечивали серость и зелень поверх кирпичной кладки, собирался дождь. Они молчали, каждый думал о своем, отчего-то совершенно не собираясь обсуждать происходящее. В какой-то момент машина остановилась. Они заехали в небольшой двор, Чжань умудрился уместить хонду у мусорных баков. Двигатель заглох, Чжань вытащил ключ, провел пальцами по рулю и посмотрел в окно. В этом дворике, под красными зонтами, стояло множество пластмассовых столиков и стульев. С развесистого платана свисали гроздья гирлянд. Больше света было от прожектора. Тот подчеркивал морось в воздухе бесконечными мелкими бликами. Догадка соскальзывает языка раньше осознания:
— Ты здесь берешь ту лапшу с телятиной?
— Вылезай. Надо поесть. Не хочу готовить сегодня.
Чжань выходит из машины, при этом успевая не глядя сунуть в руки Ван Ибо свой пиджак. Ибо медлит. Смотрит, как Чжань идет к крытому ларьку с лапшой. Спокойно и не спеша, вопреки тому, что морось превращается в дождь. Ибо вдруг понимает, что Чжань выходил из дома в легком пальто поверх костюма, а сейчас того нет. Так спешил, что забыл накинуть на себя, выходя из бюро?
Сяо-гэ — еще тот мерзляк. Ибо хмыкает себе под нос и послушно натягивает пиджак.
Густо пахнет жасмином и кедром. Желудок урчит. Сяо Чжань прав. Надо поесть.
Каждая лапшичная во всех уголках Китая верит в свою уникальность и значимость. В каждой из них, какой бы маленькой и загаженной ни казалась кухонька, живет свой «секретный ингредиент». У кого-то он и правда есть, а у кого-то залог успеха — качественные продукты; кто-то грешит усилителями вкуса, а кто-то просто не моет чан более десяти лет, из-за чего его масленные, утолщенные стенки (благодаря жиру, солям и специям) дают тот самый «неуловимый привкус».
А кто-то просто говорит: секрет — в любви к делу.
Эта лапшичная была из последних. На деле, могла иметь любой грешок из вышеперечисленных, но никто не был бы в обиде. Их лапша и правда — особенная. Дело в бульоне. Чжань множество раз наблюдал, как старик Ян Мо варит его. Нужен хороший кусок телятины и не менее хорошие тушки курицы. Они варятся с фенхелем, анисом, лавровым листом, черным кардамоном, корицей, черным перцем, калганом, даурским дягилем и… гвоздикой до кучи. Честно говоря, Сяо Чжань никогда не понимал, как из этой вроде бы какофонии специй, выходило то, что выходило.
Казалось, чан продолжает кипеть даже тогда, когда хозяева закрывают роллеты ресторанчика.
Дешевый нейлон зонтов не пропускал влагу, натянутый над всеми столиками во дворе. Чжань вскидывает голову, наблюдая, ткань постепенно темнеет. Дождь набирал силу, возможно, скоро станет потоком, и тогда никакой зонтик не поможет. Они молчат, как это часто происходит. В тишине напротив, от Ван Ибо, ощущается ожиданиe. Он ждет вопросов. Сяо Чжань же молчит, потому что не до конца уверен, что хочет знать. Вернее, что он хочет делать с тем, что узнает. Что-то подсказывает ему, что чем меньше он знает о Ван Ибо, тем будет легче. Потом. Так ведь? Так ведь.
Чжань опускает взгляд. Белый столик с пятнами, шероховатостями и вмятинами, следами от окурков. Подранной по краям клеенкой, которую когда-то приклеили на крепкий клей. Ибо ковыряет его угол и смотрит на него. Смотрит и смотрит. Они ждут лапшу и две жестянки пепси. Они ждут, когда дождь станет ливнем. Они ждут, когда кто-то нарушит тишину, которую оба так любят. Чжань подается чуть вперед. Ножки стула проезжаются по асфальту. Тот пошел трещинами, имеет ямы ближе к мусорным бакам. Вокруг — пряный шум, чавканье, свист лапши, блестящие от жира губы, хохот, споры. Все это кажется дальше, чем есть на самом деле. Такая себе слуховая иллюзия. Словно вокруг их столика — стены из толстого стекла. Они ровно в середине этого камерного моря людей, поздних зевак и тружеников, набивающих животы в рядовой вторник. Они безмерно далеки от каждого из них. Чжань смотрит в глаза напротив. Ибо прекращает попытки оторвать кусок зеленой клеенки от пластмассы стола. Вскидывает брови и пытается ухмыльнуться, краем рта, но вместо этого — отводит взгляд. Из всех их негласных игр в гляделки, эта обернулась для Чжаня «победой». Пиджак сидит на Ибо туго, тот все-таки для него немного узкий.
— Что ты можешь рассказать мне? О том, что случилось.
Ван Ибо, очевидно, ожидал другого. Он смотрит и молчит. Чжань думает, что, наверное, ничего тот не может. Или не хочет. Он не собирается давить. Выкрикивают его имя, он собирается встать, но вдогонку слышится «сам несу-несу». Сяо Чжань — завсегдатай с любовью платить щедро и часто. Хоть чаевые никто не приветствует, красные конверты по праздникам — дело другое. Сяо Чжань неловко улыбается старику Мо, тот ставит перед ними тарелки с лапшой, со стуком устраивает рядом банки с пепси. Говорит, что Чжань слишком худой, а его друг — такой молодой, они должны будут заказать еще и взять третью порцию домой. Чжань обещает, что так и будет. Старик Мо хлопает его по плечу. У него заразительная улыбка и куцая бородка, толстые очки, которые так часто выглядят запотевшими. Комично и забавно. Сяо Чжань благодарит старика трижды, Ибо ограничивается смущенной улыбкой и парой кивков с «спасибо». Момент упущен. Разломить палочки, перемешать лапшу. Подхватить кусок мяса побольше. Ибо сделал пока только первое. Затем говорит:
— Я ездил звонить брату. Нужен… компьютерный клуб с такими услугами. Услугами ip-телефонии. Когда ip-адрес и номер нереально отследить.
Подробности кажутся лишними. Как звездочка аниса поверх куска телятины в бульоне. Чжань снимает ее и кладет на салфетку рядом с тарелкой. Он кивает. Ибо забивает рот лапшой. Чжань жует мясо. Они не смотрят друг на друга. Дождь вливается в шум вокруг, сначала шелестом, затем — плотной дробью капель о натянутую ткань. Возгласы, вздохи, смех. Ибо сглатывает насыщенный, маслянистый вкус. Под конец на языке жжется перец. Приходится взять тарелку и отпить бульон просто так. Шипение и треск — Чжань открыл свое пепси. Шипучка пенится. Он отставляет ее и не пьет. Спрашивает:
— Хорошо поговорили?
Ван Ибо улыбается как-то криво, смотрит в тарелку. Говорит: «Он ел хурму». Чжань уточняет вслух, прежде чем задумывается о корректности такого вопроса:
— Хурму? Такое событие?
Ван Ибо бросает на него странный взгляд, кивает и снова бодро берется за палочки. Побольше лапши в рот, словно кто-то ее сейчас отберет. Смачно втянуть, жевать и жевать, откинувшись на спинку стула. Чжань наконец-то отпивает пепси. Пенится во рту, превращаясь в глоток. Чжань может спросить о многом и даже получить ответы. Что-то подсказывает ему, что сейчас Ван Ибо не будет увиливать, язвить или же менять тему. Чжань не пользуется этим. Он наслаждается правом на возможность. Его иллюзией, которая кажется сейчас правдой. Никак не узнать. Он чуть улыбается, когда капля бульона попадает на футболку Ибо, в след его шумному втягиванию лапши.
— Ты тоже любишь хурму, Ван Ибо?
Тот пожимает плечами, размазывает салфеткой капли бульона еще больше, втирая те в ткань. Чжань тянется вперед, отбирая салфетку из пальцев, кидает: «Просто ешь и забудь, отстирается». Ибо смотрит на салфетку, затем в глаза Сяо Чжаня. Тот отчего-то смущается. Ибо продолжает:
— Я люблю почти всю еду. Но да. Хурма зимой — это хорошее воспоминание. Дело в нем, не во вкусе. Когда вкус напоминает о чем-то хорошем и важном. Как, видимо, для тебя — эта лапша. О чем она тебе напоминает, гэ?
Чжань усмехается и качает головой. Палочки подхватывают лапшу, в которой запутались хлопья чили, говорит, прежде чем втянуть: «Напоминает, что я могу быть счастливым, даже если один».
Дождь и правда становится тем, что можно назвать ливнем. Льет стеной, беспощадно и прямо. Они сидят с пустыми тарелками и пустыми банками из-под пепси. Ван Ибо рассказывает, как впервые встал на скейт. Пытается объяснить, что ему в этом так нравится, но толком не может. «Ну, это же скейт, гэ, это просто круто». Чжань смеется и спрашивает снова:
— Должно же все равно что-то быть? Подумай, Ван Ибо.
Тот закатывает глаза, мнет банку в пальцах, оставляя вмятины. Людей вокруг становится все меньше, кто-то с визгом вылетает под капли дождя, прикрываясь куртками. Кто-то, более разумный, достает зонт и выходит спокойно, даже вальяжно, ведь набитый живот не располагает к спешке. Есть и те, кто остаются. Но они заказывают пиво и байцзю, рассудив, что милость непогоды придется ждать долго. Ибо оставляет банку в покое и говорит задумчиво:
— Если подумать… то это просто для тех, кто повернут на голову, гэ. Денег с этого никаких, особо. Известность… для узкого круга. Любая ошибка — и ты в больнице. Как видишь, очень на меня похоже, наверное поэтому и нравится. Но моя последняя доска как раз сиганула в Янцзы за час до того, как ты меня подобрал.
Сяо Чжань прищуривается и вскидывает бровь:
— Ты за ней хотел нырять?
Ван Ибо отчего-то расцветает в улыбке, сытой и слишком теплой, отрицательно мотает головой, затем потягивается всем телом. Чжань наблюдает, поглаживая кончиками пальцев шероховатость стола, не замечая этого. А ведь если скользнуть на сантиметр правее — можно измазать пальцы в кляксе от бульона. Ибо довольно выдыхает, запрокинув голову. Глаза закрыты. Свет от фонариков и софита подчеркивают абрис шеи, ломаную линию у адамова яблока. Чжань спрашивает тише, когда чужой кадык опускает вниз, он спрашивает:
— Так что ты там делал… на мосту? Ты говорил, что не собирался…
— Не собирался.
Ван Ибо говорит это в небо. Между ними тонкая преграда из красного, дешевого нейлона. Но Ибо может представить, как много там звезд. Когда дождь закончится, нужно обязательно попытаться всмотреться. Обязательно попытаться… Ибо продолжает, выпрямившись на стуле, смотря на Чжаня спокойно и открыто:
— Я не собирался прыгать в реку и кончать с жизнью. Но…
— Но?
— Но… я предложил себя. «Забери меня, если от этого станет лучше, забери меня и все». Я сказал, что постою так, пока не прокручу в голове песню три раза подряд. Если соскользну — значит, так и будет. Если нет, то… надо дальше жить и все. Не задавать больше вопросов, не… знаешь, мол, зачем-то я есть, раз не забрали. А не просто так.
Ван Ибо ждет, что это назовут глупостью. Или его — дураком. Ждет возмущения или насмешки. Ждет, что Чжань ему не поверит. Тот смотрит, склонив голову набок, затем трет переносицу, там, под очками. После — стучит пальцами по столу, смотря на то, как бесконечные капли дождя все разбиваются о асфальт, становятся лужами, блестят в свете фонарей.
Чжань спрашивает: «Кому ты себя предложил? Реке?». Ван Ибо немного думает, затем кивает. Усмехается и говорит:
— Предлагал реке. Реке, небу, вселенной, Будде, кто там. Предлагал им, а забрал ты. А может, ты и есть — река, небо, вселенная, Будда, а, Сяо-гэ?
Сяо Чжань усмехается, затем посмеивается, пальцы зачем-то цепляют пустую тарелку, подтягивают ближе. Чжань поднимает на Ибо взгляд, вбирает его будто бы ленивую, наглую улыбку. Кивает.
— Может быть. Может быть я и есть.
Дождь продолжает лить еще около получаса. Они больше не говорят. В какой-то момент Ван Ибо вытягивает телефон из кармана джинс, листает проигрыватель. Включает трек и кладет телефон на стол. Между пустых тарелок с тонким слоем остатка бульона. Ему не нужно объяснять, что это тот трек, который он обязался прокрутить в голове трижды, прежде чем слезть. Чжаню интересно, сколько он успел. Один или два? Или Чжань «забрал» его уже на третьем? Он не спрашивает.
Просто слушает.
曾经意外 他和她 相爱
现在我只希望疼痛来得更痛快反
正不能够重来
♪
7. 南方朱雀
х х х
VII.
Desire is the kind of thing that
eats you
and
leaves you starving.
Пекин,
район Чанпин
— Дерьмо…
Боль подбиралась тонкой иглой к виску. Касалась острием нерва, посылая импульс до самой челюсти. Хенг выдыхает очередное «дерьмо», силясь открыть глаза, но выходит лишь попытка прищуриться. Где-то мерзко орет телефон. Тайская попса о сладкой любви. Будильник. Он по привычке ставил его на пять утра, но сейчас можно расслабиться — снял квартирку всего в часе езды от тюрьмы, рядом с музеем авиации. Помпезно-жалкое местечко, к слову, хоть пару любопытных экземпляров там выставляли. Хенг как раз ходил пялиться на самолеты перед закрытием, курсировал из зала в зал, гладил металлические бока и усмехался подписям: английские пояснения не совпадали с тем, что было написано на китайском. Классика.
Что было потом?
Хотя, уже во время Хенг прикладывался к своей «фитнес-бутылке». Черная, матовая пластмасса недешевого термоса наполненная крепленным сливовым вином.
Дрянь, к слову. Слишком сладкое, аж скулы сводит.
А все почему? Этот Хань Фэй…
За всю свою карьеру гадливого адвоката, который вытаскивал такое отродье из тюрем, что аж самому тошно, Хенг впервые встретил кого-то, кто действительно не хочет освободиться. Сначала Хенг думал, что тот набивает себе цену, или играется, или просто выебывается, ладно. Характер, как ему говорили, у господина Ханя мерзейший. Но чем дольше адвокат Ли беседовал со своим, да простит его небо, подопечным, тем яснее понимал — тому правда глубоко поебать, выйдет ли он раньше или нет. Единственное, что вызывало в нем видимое неудовольствие — намеки, что его посадить могут и на дольше, если нажать не на те рычажки.
— Именно по этой причине… адвокат Ли…я предпочитаю сидеть спокойно и тихо. До конца своего заслуженного срока.
Заслуженного. А как же. Кто бы еще разобрался, что там заслуженно, а что — нет. Хенг открывает глаза полностью, мысленно ставя себе галочку за такой подвиг в списке достижений за день. В голове снова и снова прокручивается каша из диалогов с господином Ханем. Его низкий голос, неспешная манера речи, охриплость из-за нежелания говорить громче, паузы, которые доводят адвоката до пика раздражения. Он удачно скрывает его за улыбочками и такими же паузами (дается ему это отнюдь нелегко). В своей голове Хенг уже множество раз пинал этого ублюдка, валил наземь и вбивал точеные скулы в черепную коробку, влепливал пощечин (почему-то именно этот вид агрессии удовлетворял его больше остального), а потом… потом отсасывал, например. Прямо там, на полу «комнаты для встреч». Снимать наручники с господина Ханя вовсе не обязательно, пусть будет так, пока сам Хенг устроится между этих крепких ног (мешковатая форма не может скрыть очевидное, окей?), и возьмет в рот далеко не маленький член.
Почему Хенг уверен в том, что там в штанах крупный калибр?
Во-первых — наслышан. Во-вторых — у Хенга наметанный взгляд, да и извечная привычка господина Ханя сидеть так, будто бы там шланг от гидранта…
Окей, не то чтобы крупный размер так уж был полезен в сексе, положа руку на сердце, фантазии с реальностью не состыковываются, большой член — больше боли, простата, знаете ли, достижима и умелым пальцем, но… но кто сказал, что Хенг не любит боль? Ну так, если та оправдана.
И ведь у такого секса есть и другая палитра приятных ощущений. Совершенно стереотипно шлюшьих, но вполне достижимых. Если обладатель такого члена умеет им пользоваться.
Да и всегда можно научить. Плохая мысль.
Какая сладкая, манящая, губительная идея…
Блядский боже, надо уже найти с кем потрахаться, это уже начинает мешать работе.
М-да. Нет, только лицемерный идиот будет врать, что господин Хань — не вариант для влажных фантазий о грубом, качественном сексе в лучших традициях элитной порнухи. Стоп.
Надо уже найти, с кем потрахаться… — разве не эта мысль блуждала в его мозгу весь вечер?
Да, Хенг пошел в местный бар. В местный гадюшный бар с жалким выбором алкоголя, караоке и кучей мужиков, спускающих пар после рабочего дня: там был бильярд, там был дартс и там было… что там было вообще?!
Адвокат резко садится в постели, что отзывается волной тошноты, заставляет ознобом пробить тело и застонать, сщурившись и схватившись за голову. Так. Он кого-то подцепил? Что-то было?
Нет? Ладно. Спокойно. Пойдем от очевидного к невероятному и обратно.
Он — жив. Уже неплохо. Когда в пьяном состоянии пытаешься подкатывать к мужикам вне таких заведений, как гей-клуб, закончиться все может плачевно. Он — в своей съемной квартире.
В постели пусто, никаких посторонних звуков, только шелест кондиционера и низкое гудение холодильника. Это почти что победа.
Хенг принимается шарить руками по постели. Где-то должен быть телефон. Тот, к слову, продолжает орать тайские напевы и Хенг смачно выплевывает очередное «дерьмо» — надо просто пойти на звук. Для этого надо встать. Чтобы встать, надо… что надо, чтобы встать? О, к черту.
Хенг поднимается на колени, заставляя себя действовать не рывками, а плавно. Пора включить хоть немного осознанности. Опускает взгляд. Постель разобрана, покрывало валяется на полу, простынь сбилась. Подушки тоже где-то вне кровати. Сам он — голый. Но он всегда спит голым, так что это еще ни о чем не говорит. Хенг поднимает перед собой руки, осматривая их. Никаких видимых следов. Живот — ничего, только блядскую дорожку бы подбрить, бесит. Бедра, ноги… отлично. Наверное, он так никого и не подцепил, вот и хорошо. Хенг наконец-то сползает с постели, нога наступает на что-то трескающееся, а затем — влажное и склизкое. Хенг опускает взгляд. Оказывается, сначала он наступил на пачку из-под презерватива, а затем, когда переступил с ноги на ногу, на… да, класс.
Секс у Хенга все-таки был.
С самым любимым человеком на свете — самим собой.
С помощью вот этого свежекупленного красавчика из секс-шопа. Кряхтя, Хенг наклоняется за игрушкой, и вместе с очередным вбросом боли на место серого вещества, приходит смутное воспоминание: он пошел в бар, осмотрелся, погонял шары, послал кого-то на хуй, вышел из бара. Замерз. Увидел ларек секс-шопа возле закрытого рынка. Неоновая вывеска обещала скидки и массаж. Хенг завалился туда в мыслях о погреться и… вот. Приобрел друга на вечер.
Вот бы он всегда был таким рассудительным и креативным в бухом состоянии, а.
Резиновый член «под натюрэль», как выразилась консультант, размеров был немаленьких. Мог крепиться к кафелю, для любителей кардио-упражнений на мышцы ног, видимо, во время водных процедур. Хенг такой херней не страдал. Стянув с дилдо измазанный в лубриканте презерватив, кидает игрушку на постель, и берет курс на кухоньку — выкинуть жалкую улику своей жалкой личной жизни. Только сейчас понимает, что все вокруг утопает в запахе химозной вишни. На полу валяется бутыль смазки как раз с таким ароматом. Половины нет, гель-желе размазан по паркету рядом.
Боже, чем он занимался, что он за животное, а?
Ладно, такая форма зависимости лучше всех тех, что у него были до этого.
Хенг произносит очередное «вот дерьмо», и прежде чем сделать хоть какую-то видимость приличного существования, набирает воду в чайник и клацает по его кнопке. Сначала — кофе. Потом завтрак, в холодильнике должна быть банка кимчи и рис со вчера. Потом уборка и душ. Проверить почту (ему должны были прислать «сочные подробности» дела Хань Фэя), выбрать костюм. Купить хурмы. Доехать до тюрьмы. И пытаться не думать о чужом члене.
Ладно, смешно.
Можно думать, но напоминать себе, что пока тот — за решеткой, мечты о потрахаться такие же эфемерные, как и, в принципе, все остальные его мечты.
Хенг наконец-то находит телефон. Тот лежал на подоконнике, не уставая волоебить строчку «вернуть тот вечер с тобой и мной, под россыпью звезд и полной луной». Хенг морщится и выключает будильник. Пальцы мелко дрожат с бодуна, когда он тянется к плотной ткани и отодвигает штору. Лучше бы он этого не делал. Небо — сочное и синее, ни единого намека на облако, ясность — сто процентов, воздух прозрачен. Голые ветви деревьев, ленивый ход машин, горстка мужичков в темных куртках — ждут автобус через дорогу. В ту сторону курсирует только один маршрут. Наверняка часть из этих мужчин — надзиратели или просто сотрудники Циньчэн название тюрьмы. Дешевый градусник за стеклом показывает минус три. Хенг думает, что ему бы не помешал шарф к пальто или хоть что-то потеплее. Он взял с собой слишком мало вещей, а, кажется, ездить к этому мудаку ему придется еще долго.
Хурма. Не забыть купить хурму.
Хенг задергивает штору обратно и выдыхает «блядь», зависнув на пару мгновений. Ноющая боль по телу и тошнота все никак не отпустят. Чайник щелкает. Пора заливать кофе. Только в этот момент Хенг понимает, что так и не купил себе ни молотых зерен, ни просто растворимой дряни.
Прикрыв глаза, Хенг медленно трет ладонью лоб и шипит:
— Дерьмо.
х х х
Заполненная до краев запахом вишни, ликера и почему-то миндаля, переговорная. За предыдущие три раза было не так тяжело, как сейчас. Хотелось открыть окно, чтобы морозный воздух разбавил этот тяжелый аромат — им от адвоката Ли просто разило. Не сказать чтобы это было неприятно. Непривычно, тяжело, сладко-горько. Кажется, адвокат Ли пытался безуспешно скрыть перегар, жевал жвачку (тоже вишневую, судя по всему), смотрел покрасневшими глазами в свои распечатки. На белом блюдце аккуратно лежит хурма. Три штуки. Каждая — разрезана напополам. Фэй знает, до этого ее облапало минимум два надзирателя, проверяя, не всунул ли адвокат Ли чего-то внутрь. Хоть, как лезвие или иглы (что еще можно туда засунуть-то?) смогли бы помочь в побеге? Разве что первое и для того, чтобы покончить с жизнью. Но при желании в тюрьме было множество других опций для такого решения. Регламент есть регламент — тщательно проверить все, что окажется в переговорной. Фэй невольно цепляется за эту мысль. Тянется за половинкой хурмы под металлический перелив от цепи наручников, берет самую правую половинку.
Адвоката Ли перед тем, как пропустить сюда, тоже так тщательно осматривают? Заглядывают во все карманы, щупают узкие бедра, проходятся по животу, поглаживают от поясницы до плечей, заставляют открыть рот и заглядывают внутрь? Нечто более унизительное с уважаемыми людьми не делают. Фэй прихватывает сладкую мякоть губами, всасывает немного сока, по языку вяжет, зубы опускаются в плод, стягивают кожицу. Ли Хенг поднимает на него глаза. Короткий взгляд. Снова смотрит в свою бумажку в руке.
Говорит чуть громче шепота, словно размышляя над чем-то другим:
— Хурма у вас есть, господин Хань, так что я надеюсь на ваше сотрудничество сегодня.
— Хурма в Китае теперь — дефицит?
Снова взгляд, в этот раз смущенно-непонятливый. Адвокат Ли с похмелья теряет свою собранность. Фэй смотрит, продолжая сжевывать гладко-влажную сладость. Язык вяжет сильнее.
Ли Хенг все-таки сдается, хмурит брови:
— Что вы имеете в виду?
Фэй молчит. Он ведь жует. Хенг смотрит на него, пока что даже не моргнув. Листок в его руке немного дрожит. Фэй все-таки продолжает мысль, после того, как сглатывает и кладет ошметок шкурки на тарелку. Пальцы надо бы вытереть, но салфеток пока нигде не наблюдается. Да и не будет их. Фэй тянется ко рту, мажет по губам большим и указательным, облизывает, затем трет по подбородку, чешет щетину, упираясь локтями в стол. Хенг все еще смотрит. Фэй наконец-то отвечает:
— В четвертый раз вы приносите мне хурму, как и договаривались. И говорите эту фразу. Она звучит так, как будто бы достать хурму для вас — очень сложное задание. Хоть это не так.
— Вас это обижает?
— Ничуть.
Хенг позволяет себе улыбочку. Не улыбку, а именно — улыбочку. Фэй отвечает почти что тем же, кивает на тарелку, мол, угощайтесь. Хенг игнорирует этот взгляд, кладет листок в свою черную папочку. Пальцы длинные и тонкие, Фэй бы назвал их даже девчачьими, но все-таки ладони адвоката хоть и узкие, но достаточно крупные. Он сцепливает их в замок, устраивая острый подбородок на нем. Понижает голос, когда произносит:
— Если возможность свободно покупать самому себе хурму вас не привлекает, как и все остальные моменты, которые я уже обозначил… воспользуюсь нечестным ходом. Неужели вы не хотите увидеть своего ученика куда раньше? Такая радость, он вовсе не сгорел заживо, чудеса. Мне тут нашептали, что вам звонили день назад. И сегодня вы чуть более разговорчивы, чем обычно, господин Хань. Мне связать эти два события? Или…я ошибся, простите, в вашем клане это не называется «ученик», скорее как младший братик или даже сын?
— Рот закрыл.
Глаза Хенга говорят нечто вроде «заставь меня», но не рот. Тот благоразумно слушается.
Но ненадолго. Хенг шепчет: «Почему нет?». Хань Фэй смотрит на него долю секунды, затем отворачивается и старая добрая песня начинается сначала:
— Скажите, кто именно вас нанял, адвокат Ли, и тогда я перестану вас терзать. В зависимости от вашего ответа мы и поймем, что будем делать дальше.
— Терзать? О, милый…
Последнее вырывается у Хенга явно случайно, судя по его смешанному взгляду, когда Хань Фэй смотрит на него в упор. Адвокат Ли усмехается, продолжая играть в игру, словно так и нужно было. Упертый баран…
— Я уже говорил, что эти люди… этот человек, не желают вам и вашему ученику зла. Это — друзья.
— Все мои «друзья», как вы упоминали, были сожжены заживо.
— Ну. Вот ученик ваш — выжил. Почему еще кто-то не мог? Бросьте… вся эта мутная история…
Хенг устало откидывается на спинку стула и неопределенно машет рукой. Затем та же рука вплетается в волосы на затылке, чуть тянет. Адвокат смотрит куда-то перед собой, массируя ближе к шее. Вишней стало пахнуть еще больше. Фэй наблюдает. Волосы на вид выглядят гладкими и мягкими, но наверняка это не так. Слишком густые и явно жесткие. За такие хорошо бы…
— Давайте так. Я вытащу вас отсюда, желаете вы того или нет. Это вопрос моей репутации, вопрос долга, не только профессионального, и мне дороги мои яйца, окей? Ничто мне так не дорого, как я сам, выбора мне особо не оставили. Вам не нужно ходить на заседания. Просто сотрудничайте со мной по минимальному. И я гарантирую… ни вам, ни пацану — ничего не угрожает. Никто не знает, кто он, мне просто передали информацию про звонок и про то, что его тело так и не было найдено. Я заставил провести эксгумацию, влетело мне это в целое состояние, конечно. За пять лет технологии в этом смысле пошли куда дальше. Были установлены личности каждого…
— По праху?
— Я же сказал «тел». Никого из них не кремировали, господин Хань, это против протокола. Даже когда вас посадили. Потому что не все аспекты дела до сих закрыты, как вы знаете… но и по праху, при желании, сейчас можно установить родство с…
— Просто назовите имя. Кто платит и угрожает вам, чтобы вытащить меня?
Хенг закусывает щеку изнутри. Смотрит в упрямые глаза напротив. Опускает руку на стол и барабанит пальцами поверх папки. Ладно.
— Госпожа Ма.
Дальше должно было последовать «она жива?» или что-то вроде. Удивление, ужас или сомнение в глазах. Вместо этого не происходит ничего. Только вот Хенг невольно сглатывает, взгляд Хань Фэя постепенно темнеет. Пауза. В следующую секунду происходит нечто из ожидаемого: резкий выпад, тарелка с треклятой хурмой летит со стола, разбивается на крупные белые куски, мякоть шмякается на пол, оставляя следы, к Хань Фэю подрывается надзиратель — толстый Бо, — он пытается скрутить заключенного, но Хенг четко и громко выдает: «Стоп! Отпусти. Отпусти, блядь, он не будет…». Чего именно он там не будет — Хенг не договаривает, но надзиратель отходит.
Фэю некуда деться от стола, он к нему все-таки прикован цепью от наручников, а сам стул — приварен. Все, что он может — тяжело дышать и закрыть глаза. Замечательно. Хенг подносит пальцы к щеке и стирает с нее ошметок хурмы. Мякоть на пальце.
Он смотрит на нее, затем слизывает. Что ж…
— Она говорила, что реакция может быть бурной. Как я понимаю, она просто хочет исправить то, что пошло не так… и мне глубоко плевать на детали, я знаю, как я вас вытащу, просто не мешайте мне. Вы бы знали, как ваши люди вас ждут, господин Хань… да и, я так понимаю, ваш пацан сейчас ведет не самый лучший образ жизни, если скрывается… не иметь ни документов, ничего за душой, это… не знаю, кажется мне тяжелым испытанием. Ему было четырнадцать, когда вас посадили, как-то так, да? Вы можете все это прекратить и просто вернуться.
Тишина. Хенг рискует посмотреть на господина Ханя. Тот, оказывается, словно рассматривает его. Как-то по-новому, что ли.
— Я понял. Хорошо. Вытаскивай меня отсюда.
Ли Хенг сначала не понимает. Замирает на пару секунд. Затем склоняет голову набок, рассматривая господина Ханя в ответ. Щетина по лицу, он один из немногих, кому разрешено не бриться и не носить дебильную прическу под горшок. Серая форма подчеркивает дымчатость темных глаз.
Из-под рукавов до середины предплечья выглядывают очертания татуировок.
Говорят, на его спине — дракон. Такое клише. Интересно, какой?
Кажется, Ли Хенг наконец-то нашел мощную мотивацию для своего подопечного.
Он улыбается и кивает.
Подумаешь, немножко не уточнил детали, это ведь даже не ложь. Главное — сработало.
х х х
Чунцин
Ван Ибо не может кончить. Вот-вот его должно накрыть волной жара по телу, сердцебиение уже где-то у глотки, он трется и трется, старается и старается, но ощущения ускользают. Обманчиво полные, на деле — это далеко не так. Все настолько плохо, что хочется всхлипнуть. Наверное, он так и делает, уверенности тут нет. Взгляд скользит по каким-то полкам, почему-то с них падают книги.
Он чувствует тепло спиной, чувствует запах: что-то знакомое, едва уловимое, что-то такое привычное. Он трется и трется и…
— Ван Ибо… это кошмар, проснись, всего лишь…кош-мар…
Голос словно изнутри. Книги продолжают падать с полок, Ибо почему-то чувствует, что происходит нечто очень несправедливое. Кто-то не прав. Кто-то так не прав, а так хочется… хочется… он на полу, упирается спиной в стену, книги падают, а он все пытается приласкать себя, сунув ладонь за резинку шорт. Жарко, так жарко, все жарче и жарче…
Холодное ощущение по шее, словно кто-то сцепил на ней пальцы, холод перетекает к щеке, затем ко лбу. «Проснись, проснись, проснись…». Сейчас это все неважно, важно — наконец-то кончить, так хочется кончить, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста…
— Ван Ибо!
Из сна выбрасывает резко, что аж дурно. Ибо открывает глаза, глотнув воздух ртом, а затем всего становится слишком много: Сяо Чжань на его бедрах, и уж тут даже идиот может догадаться, что возможно, кошмар был очень даже секси — у Ван Ибо, словно у подростка, стоит крепко.
Хорошо, что все-таки не кончил. Наверное. Или плохо?
Дурацкий сон. И на что он там дрочил? На книжные полки?
Что за хрень?
Ибо не смотрит выше чужой груди. Судя по ее движениям — Сяо Чжань дышит тяжело и глубоко.
Да ему бы с чего? Это Ван Ибо тут…
— Ай… гэ.
Сяо Чжань отмирает, слезая с его бедер. Вроде и хорошо, а вроде и обидно. Ибо все еще не до конца проснулся, осознает, что произошел в некотором смысле смущающий пиздец, но с другой стороны — разве? Ну, приснился ему влажный сон. Ну, встал член, нормальная реакция. Нормальная…
— Ты можешь… я выйду, а ты…
— Предлагаешь мне запачкать твое постельное белье?
Звучит сипло. Ибо прочищает горло. Думать связно не получается, на самом деле больше всего хочется, чтобы Сяо Чжань вернулся на его бедра и хорошенько потерся. Или еще чего. Интереснее. Ибо слышит ленивое фырканье. Он прикрывает глаза. Для начала надо немного успокоиться. Ибо тянет воздух носом, шумно выдыхает, трет по лицу, пытаясь прийти в себя. Надо просто добраться до ванной, принять заодно душ, подрочить хорошенько и — здравствуй, новый день. У него вообще были планы. Найти подработку, чтобы заиметь побольше наличных. Плюсом — можно танцевать на каком-нибудь пирсе, прибиться к команде. Что еще… Конечно же — баскетбол и ставки, уличный маджонг и покер. Стандартный набор легких, мелких денег. Главное больше во всякие бойцовские клубешники не ходить, брат прав, хоть денег и больше, большая их часть потом идет на всякие мази от ушибов… вот, Ибо почти что успокоился. В яйцах хоть так не звенит. Кажется.
Рядом какой-то шорох. Ибо думает спросить, который час, поворачивает голову и открывает глаза. Как раз в тот момент, когда Чжань клацает крышкой бутылька, закрывая ее. Видимо, нюхал ее до этого или что? Ибо тупо смотрит на банку в его руках.
— Это… что?
— Это смазка. Тебе будет приятнее дрочить с ней. Она с согревающим эффектом, так что не пугайся. Я пошел готовить завтрак.
Сяо Чжань ставит эту круглую банку, которую легко спутать с чем-то вроде геля для волос, на грудь Ибо. Тянется к нему, чтобы взъерошить волосы. И встает с постели. Ибо смотрит на дверь, пытаясь сообразить, что конкретно сейчас случилось? Стояк все еще стояк.
Ибо садится в постели, банка скатывается с груди, он подхватывает ее. И правда. Согревающий эффект и вкус… манго. Ибо с сомнением пялится на этикетку, затем откидывает одеяло. Стягивает резинку трусов и с удовольствием выдыхает: «Ох-х… хорошо». Косится на банку.
Снова смотрит на член. Затем на дверь. И снова на банку.
Ван Ибо медлит, но в итоге снимает крышку и загребает побольше лубриканта в ладонь.
В другой части лофта слышен звук воды.
Чтобы сделать корейские блинчики, вам понадобятся те продукты, которые вряд ли стоит употреблять перед днем полным встреч. Паджон — это про зеленый лук, чеснок и крахмал для корочки. Чжань методично взбивает яйцо со всей необходимой смесью, смотря на нарезанный лук и подавленный чеснок. Нужно еще замешать соус. Сам Чжань только что из душа, где достаточно быстро и позорно подрочил, обещая себе, что это явное помутнение рассудка пройдет, как только сперма окажется в водостоке. Ага, смешно.
Пора признать — Ван Ибо хотелось хоть в каком-нибудь виде и давно. Это нормально.
Ненормально то, что Чжань всего полчаса назад чуть было не полез под одеяло, как только в полной мере осознал, что дело вовсе не в кошмаре. Да и если подумать, когда Ибо правда снились кошмары, он вел себя несколько иначе. Но кто ж мог сообразить в такой момент?
То, как Ибо поджимал во сне губы, как мычал что-то несвязное. Как перевернулся на живот и тяжело дышал в подушку. Как, теперь понятно, пытался тереться о хоть что-то. А Чжань, добрый рыцарь, перевернул его на спину. Пытался разбудить. Потом еще сверху уселся. Гений, что сказать.
Чжань медленно моргает, продолжая замешивать жидкое тесто для блинчиков. Наконец-то ставит миску на столешницу, сбрасывает зелень, специи и чеснок в яичную массу. Он специально выбрал самое не-секси блюдо, и не важно, что придется дважды почистить зубы и купить жвачку по дороге, все-таки у Чжаня сегодня важные встречи… да, вспомнить бы еще — с кем именно. Чжань ставит тонкую сковородку на плиту, выбирает степень нагрева. Плита покорно пищит.
Соус, точно, замешать соус…
— Мне не понравилось.
Что-то подсказывает Чжаню, что оборачиваться не стоит. Он так и делает. Не оборачивается.
Тянет вопросительное «м-м?», открывая шкафчики. Ему нужно найти рисовый уксус.
Без него соус к блинчикам будет совсем не тот.
— Мне не понравилась твоя манговая смазка. Согревает, да, но…
И что ему сказать? «Мне жаль, что твоя дрочка не удалась?»
Сяо Чжань издает нечто среднее между хмыканьем и фырканьем. Бутылка рисового уксуса спряталась за пачкой сахара. Чжань слышит, как пищит плита снова, и поворачивает голову вправо: Ван Ибо, накинув фартук на голое тело, зачем-то ее выключил. Хочется спросить «что за нахрен?», но вместо этого Чжань тупо замирает с протянутой за уксусом рукой. Это что за ожившая порнушная мечта старого извращенца? «Голый твинк в фартучке»?
Сяо Чжань на такое не подписывался. В буквальном смысле. Ибо смотрит на него, Чжаню нужна минутка, чтобы ответить тем же. Смотреть только в лицо, вот и все.
— Что ты…
— Мне девятнадцать, если что. Я могу пойти в бар или куда-нибудь… или скачать приложение, найти себе кого-нибудь на пару ночей. М-м… Но я был бы не против, если бы ты мне помог до конца этим утром, гэ. Если, конечно, это ничего не испортит. Если ты не хочешь, то…
Ван Ибо сам не верит в последнюю фразу, как и сам Чжань. Не хочет, конечно. Проблема в том, что если Чжань пойдет на поводу этого желания, то все станет как-то… неправильно, что ли?
Правда, фраза про бар и приложение звучит еще хуже. Чжань наконец-то вытаскивает уксус и со стуком ставит бутылку на столешницу. Девятнадцать, значит. Чжань дает себе секунд тридцать, за это время откручивает крышку уксуса, вливает столовую ложку в пиалу. Туда же отправляются соевый соус, хлопья красного перца, сахар, кунжутное масло…
— Начнем со взаимной дрочки и минетов. Если будет хотеться. Про большее — я подумаю потом. Много возни.
Сяо Чжань сам удивляется тому, как спокойно звучит. Венчик поменьше опускается в пиалу, чтобы смешать соус. Голос Ибо оказывается ближе, а затем со спины Чжаня накрывает теплом.
Теперь, как бы ни звучал его голос, трудно не понять, что сердцебиение у него зашкаливает.
Это все давление.
Давление, блядь, мошонки на мозг, что он творит?
По пунктам: утянул пацана с моста, притащил в дом, корчит из себя папика, а теперь еще и трахаться с ним собрался?
Кто он вообще?
— Ибо, у меня много встреч и есть время только на завтрак и собраться, что ты думаешь, ты делаешь?
— Лишаю тебя завтрака. Поешь где-нибудь потом. Ты все равно мало по утрам ешь, гэ.
Ван Ибо шепчет это на ухо, чтобы затем прихватить мочку уха губами и потянуть. Чжань медленно ставит пиалу и хренов венчик на стол. Последний оставляет после себя пару капель соуса. Чжань поворачивается в чужих руках, заставляя Ибо упереть ладони по обе стороны от его бедер в столешницу. Ван Ибо улыбается. Улыбается так спокойно и знающе. Девятнадцать ему, блядь, посмотрите на него. Чжань кладет ладонь на его щеку. Если приглядеться — пушок со щетиной мелко пробиваются то тут, то там. Губы все еще пухлые ото сна, волосы — взъерошены.
От Ван Ибо несет манго и сексом: горькое смешалось со сладким, мускус с пралине. Ладонь Чжаня соскальзывает к шее, большой палец упирается под кадыком Ибо, он смотрит на контраст их кожи — свет падает так, что это легко подметить.
Да, это неправильно. С какой-то моральной точки зрения. Это так неправильно, что именно по этой причине этого так хочется. Когда Чжань нормально трахался вообще в последний раз? Короткие свидания через приложения, пьяные дрочки в закрытых клубах. Штук пять за эти три года. Но дело ведь не в этом.
Будь это просто трах, Чжань бы не остановился и залез под одеяло.
Чжань подается ближе. Не сразу, рывок обрывается на середине, он замирает в сантиметре от чужих губ. Ощущение, словно он цепляется пальцами за стеклянный обрыв. Так бессмысленно пытаться это исправить. Ибо ничего не делает, просто смотрит в его глаза. Затем, кажется, Чжаню слышится всего одно слово: «отпусти». Можно было бы подумать, что его. Но это ложь.
Оба знают, Ибо просит его отпустить себя.
На низком столике кухни вибрирует телефон, перебивая своим жужжанием трек входящего вызова. Чжань не преодолевает несчастный сантиметр до губ Ибо, отвлекаясь, он вскидывает голову.
И тогда Ибо вбивает его бедрами в столешницу, тянет на себя за шею и не дает шанса ни на что, кроме поцелуя. Потому что — сколько можно над ним издеваться? Вернее, над ними.
Это просто физиология. И это нормально. Приятный бонус в их пакте сожительства.
Ибо почти уверен, что считает так искренне. Ибо почти уверен, что Чжаню нравятся следы на его шее. И Ибо почти уверен, что это было замечательной идеей.
Ибо девятнадцать. И как все девятнадцатилетние — он не ошибается.
8. 炼石补天
х х х
VIII.
«First best is falling in love.
Second best is being in love.
Least best is falling out of love.
But any of it is better than never having been in love.»
― Maya Angelou
Чунцин,
суббота, 6:15 PM
Тяжелый туман стелился меж домов, заглядывая в прорези переулков, стекал вместе с влагой по камню выбитых ступеней, и рассеивался, стоило войти в свет и тепло. Небо тяжелое и стремится к закату, обоженное солнцем за день; в прогалинах серых туч просматриваются алые пятна.
Рынок занимал собой бывшие офисные здания, которые сейчас казались карликами, окруженные более новыми высотками.
Рынок взяли в стеклобетонное кольцо, лишив возможности ветру резвиться по его проходам.
Большая часть окон и дверей были сняты, этажи перетекали один в другой, все пестрило неоном, заполнялось гулом бесконечной рекламы, музыки, разговоров, шумом движущейся толпы.
Воздух уплотнялся запахами: топленое масло, жженый сахар, нагретая пластмасса, мыльные ароматы духов, пряные ароматы специй, сладко-душный запах мяса, характерный запах рыбы, и снова — жаркое, сладкое, кислое, горькое, затем пыльное и мертвое, только чтобы взвиться под конец ноткой бобов тонка. В носу чесалось, если быть честным. Но Сяо Чжань держал руки от носа подальше — стоило ему потереть его с силой, тот становился ярко-красным.
Привычка преследовала его все детство, отучали от нее совместно: бабушка просила и наставляла, мама — била по рукам. С тех пор Чжань научился другой характерной привычке — морщить нос, напрягая верхнюю губу, и двигать им на манер грызунов (кроликов в частности), из-за чего над ним по-доброму потешались с садика до магистратуры. Вот и сейчас, опустив руку на мягкий кашемир пуловера (несчастное изделие было распято поверх «витринной решетки»), Чжань морщит нос, пытаясь унять зуд. Другая рука сжимает кожаные перчатки, купленные пять минут назад.
С зарплаты Ван Ибо. Тот то ходил за ним чуть ли не дыша в шею (намеренно, без сомнений), то пропадал в соседних рядах, чтобы вернуться с какой-нибудь очередной дребеденью.
Йо-йо, пакетик жареных осьминогов в кляре, пачка игральных карт под старину (чью, понять бы только), статуэтки драконов («Гэ, это же Фуцалун, он охраняет сокровища, ты что ли не в курсе? Будет теперь охранять тебя, угадай — почему? А это — Чилун! Он горный демон-дракон!»), чайная фигурка — чашень, — способная «держать» палочку благовоний в виде Сунь Укунакороль обезьян.
Чжань никак не комментировал это расточительство, смутно ощущая, что такая чистая радость от покупки всякой мелочи — нечастое явление в жизни Ван Ибо. Учитывая, что тот каждый раз бросался фразами на тип «в твоем доме будет хорошо смотреться, правда?» или «я не всегда окажусь под рукой, чтобы греть твои конечности». Да, у Сяо Чжаня очень часто мерзнут руки и ноги. Он никогда не просил их греть. Но в восприятии мира Ван Ибо, сам факт того, что его руки — постоянно теплые, а руки Чжаня — «куски льда», логично совместить эти два компонента для достижения баланса. Конец цитаты.
Сяо Чжаню не нравилась мысль, что он может привыкнуть к теплу своих рук.
Но отказаться от этого просто не мог.
— Хочешь этот свитер?
Ван Ибо появляется откуда-то сзади и слева, ныряет под руку, из-за чего Чжаню приходится сделать шаг вправо. Пальцы в последний раз проходятся по линии выреза. Чжань уже подмечает краем глаза, как из глубины лавки к ним идет сухенькая старушка с небольшой деревянной счетной доской, висящей на ее шее с помощью обычной бечевки. Суаньпань гремела потемневшими от времени бусинами-костьми. Чжань снова смотрит на пуловер. Теперь рука Ибо творит беспредел — забирается пальцами под ткань, щупает, словно проверяя мягкость или тонкость. Он добавляет:
— Красивый цвет.
Чжань почему-то отвечает, делает это тихо, ему не хочется, чтобы старушка услышала: «Этот цвет называется ‘берлинская лазурь’, и это пуловер, не свитер». Ван Ибо переводит на него взгляд, вскинув брови. Он хотел бы спросить «да в чем разница?», но старушка оказывается перед ними и ее улыбчивый, тонкий рот спрашивает:
— Вы так тщательно мнете мой свитерок, даже не знаю, как вам теперь его не купить?
Ибо многозначительно смотрит на Чжаня, повторяя одними губами «свитер».
Чжань просто смотрит в ответ, даже не закатывая глаз, а затем улыбается старушке:
— Вы правы. Но это зависит от цены и мне кажется, он мне немного велик, есть ли размер…
— Это не он велик, это ты — маловат. Но кутаться в него тебе будет приятно. Последний в таком цвете остался.
Сяо Чжань «проглатывает» ремарку о своем внешнем виде.
Ван Ибо рядом поджимает губы и решает уйти в лавку поглубже, оставляя Чжаня со старушкой в обществе счетной доски. Деревянный настил скрипит под кроссовками, Ибо шуршит пакетом, перекидывая его из руки в руку, вскидывает голову, рассматривая свитера, накидки, шарфы и шали. Так забавно видеть подобное изобилие в месте, где градус едва ли опускается ниже нуля.
Вернее, даже ниже пяти.
Южане — мерзляки.
Ну и хорошо, ладно, мир одним Чунцином не ограничивается — если ты вдруг собрался в Харбин, то эта бабуля запакует тебя как надо… Ибо косится на нее, прощупывая очередной то ли свитерок, то ли, простите, пуловер.
Почему-то кажется, что чем глубже Ибо уходит в недра лавки, тем все дальше шум огромного рынка.
Старушка все изучает лицо Чжаня, не стесняясь и даже нагло напирая. Тот смотрит в ответ.
Глаза старухи походят на щедро разбавленный темный чай, вся она изломана выпирающими суставами, но жесты и сам взгляд — полны силы и жизни. Она сама закутана в пестрый платок поверх черной водолазки, и шерстяные брючки в крупную клетку вовсе не кажутся дешевыми. Выделяется, конечно, обувь. Ярко-красные мокасины с золотыми бляшками в виде голов дракона. Те показывают заостренные языки и отблескивают рубиновыми глазами, ловя свет. Седые волосы с проредью черных локонов собраны в аккуратный пучок. Чжань почему-то думает, что его бабушка где-то такого же возраста, если подумать. Тот, что можно было бы назвать по китайским меркам «близким к благородной древности».
Чжань усмехается, не заполняя возникшую паузу словами. Снова смотрит на пуловер.
— Почему вы выставили его так? Только потому что он последний? Он на размера три больше, чем мне надо…
Чжань цепляет рукав, аккуратно поддевает так, чтобы не осталось дырки — старуха пришпилила свитер к решетке раскрытыми булавками. Не очень умно.
— Чтобы ты заметил. У тебя глаза уставшие, они многого не видят. Бери. Цена — двести куай.
— Сто пятьдесят.
— С чего бы?
— Булавки наделали дырок, мелких, но все-таки дырок.
— Сто семьдесят.
— Возьму за сто тогда.
— Хорошо. Бери за сто пятьдесят. Снимешь сам. QR-код на вывеске.
Сяо Чжань продолжает смотреть в глаза старухе. Та чему-то улыбается. В глубине лавки раздается глухой грохот, а затем какое-то пыхтение. Голос Ван Ибо уверяет, что все в порядке, и в этих коробках не было ничего, что могло бы разбиться.
Сяо Чжань вспоминает, что ведь хотел купить на рынке только свежего мяса и овощей.
Свитер-пуловер ему запаковывают в красный бумажный пакет.
х х х
Праздник весны, китайский Новый год, Чуньцзе… период, когда ты должен вернуться домой, как бы далеко тот ни был. Дни до даты мелькали все быстрее. Январь пролетел, словно скоростной поезд. Чунцин, как и весь Китай, добавлял красного к месту и не очень, лепил драконов на каждом столбе, витрине, стене, украшал ветви деревьев и запутанные высоковольтные провода, взлетал красным до самых пиков высотных зданий.
Самый большой дракон, которого удалось заметить, разместился на главной торговой артерии Чунцина — дракон «вылезал» из экрана между бесконечных реклам, взвивался по небоскребам световым шоу и желал всем богатства и счастья. Стоя в пробке на очередной «развилке», Ибо наблюдал за ним уже раз в пятый. Какая-то слепящая эйфория от посещения рынка, вместе с дурашливостью и удовлетворением от покупок, сходила на нет.
Вместо нее накатывала усталость и почему-то печаль.
Ибо думает о том, как много семей видел сегодня. Как часто ему предлагали купить что-то еще для, возможно, девушки. Брата. Сестры. Племянника или племянницы. Маме. Отцу. Бабушке. Дедушке.
Чуньцзе — жестокий праздник для тех, у кого нет не то, что дома. А людей, которые его создают.
Ван Ибо думает о брате. И думает о тех, кого больше нет. Затем — о злости. Та снова подбирается к нему. Заставляет смотреть в окно, смотреть и не видеть море красных и белых огней, а только свое смутное отражение. Динамики тихо отбивают низкий ритм, поверх него шелестит голос.
Чжань ведет пальцем по панели и звук почти что пропадает.
— Устал?
Ван Ибо поворачивает голову, но не сразу. Чжань выглядит расслаблено. Нацепил очки, смотрит перед собой. Пробка начинает помалу двигаться. Они проехали аж сантиметров сорок, прежде чем снова встать. Ибо не думает, что этот вопрос стоит ответа. Скользит взглядом по профилю Чжаня, по тому, как тот бездумно поглаживает руль. Снова к лицу. Чтобы увидеть — на него смотрят.
Ибо чуть пожимает плечами. Надо бы улыбнуться и сыграть в дурака. Но он этого не делает.
Чем ближе Чжань ему становится, тем меньше он пытается что-то изображать. Плохо.
Кто знал, что такие приятные бонусы, как минеты и взаимная дрочка, могут сближать еще сильнее?
Только любовные романы и такие же дорамы! Правда, все не совсем так. В чем-то это сближает.
А в чем-то — делает вас дальше.
Чжань смотрит как-то странно, затем опускает взгляд и произносит:
— У меня… длительный отпуск, классические пятнадцать дней. Я подумал… ты волен поступать, как хочешь, но… ты мог бы поехать со мной к моим. А потом мы могли бы поехать к твоему брату, если это возможно. Я бы тебя отвез. Куда скажешь.
Ван Ибо молчит. Чем ближе ты мне становишься, тем дальше тебя надо держать. Ибо прочищает горло, смотрит на руку Чжаня, что стала сжимать руль сильнее. Ибо тянется к ней, чтобы провести указательным пальцем по ложбинке между мизинцем и безымянным.
— Это не очень возможно. Но… поехать к твоим… кем ты меня представишь? Друг-сирота в беде?
Ван Ибо расплывается в улыбке и смотрит на Чжаня с толикой вызова, которого на самом деле нет. Тот смотрит в ответ. Молчит дольше нужного. Затем спокойно отвечает:
— Кем-то, кем ты сам захочешь быть. Я знаю, тебе нравится.
— Нравится?
— Забываться в «другом себе». Протеже для бюро. Выгнанный из школы за прогулы баскетболист Цзинь-Цзинь для соседнего двора, недавно переехал из Ханчжоу. На мойке для Биньвэня — тебя выгнал из дома отец-алкоголик, и ты мечтаешь стать летчиком, а дом твой был в Чанша, и вот ты скитаешься. В парикмахерской за углом ты единственный сын больной матушки с артритом, с которой вы спасались от карточных долгов дяди, бежали аж из Чэнду… ты хоть сам запоминаешь все? Это важно, а то поймают.
— Откуда ты…
— Я вырос в этом районе. Дом был недалеко от ремонта одежды, подняться по той узкой улочке вверх… Все меня в нем знают. Ты зарабатываешь свои наличные рядом с домом. Люди любят сплетни. Когда во многих местах одновременно появляется «бойкий малец» зарабатыващий наличку… еще обвел в маджонг местных старушек, а старика Фа обыграл в покер… как о тебе не узнать. Тебе нравится это. Играть другие жизни. И тебе верят. Это многого стоит, чтобы тебе верили. Учитывая, как все буквально живут в азартном ожидании, что их вот-вот обведут вокруг пальца…
— Намекаешь, что я лжец и все такое?
— Что у тебя талант, может быть. Когда Биньвэнь рассказывал в красках о твоей мечте про полеты, он прослезился. Только сделай что-то с историей про артрит, ты немного перестарался, госпожа Мэо собиралась делать для тебя сбор… так что мне пришлось сказать, что я взял над тобой опеку, в каком-то смысле, и «оплатил» лечение твоей матушки. Но пока я сказал это только госпоже Мэо. Иначе получится, что я приютил у себя слишком много людей. Еще я сказал, что ты очень гордый и ей не стоит упоминать меня при тебе.
— Обычно я не задерживался так долго, чтобы появились проблемы.
Сяо Чжань медленно кивает. Поток машин наконец-то начинает плавное и стабильное движение. Ибо смотрит перед собой. Дракон с одного небоскреба перелез на другой.
Скоро он станет надписью: «Встречайте весну».
Чжаню не хочется быть в ней одному. Они больше не говорят ни о чем до самого дома.
х х х
Как оказалось, он врал себе, когда верил, что все с ним в порядке.
Он пережил предательство, измену и потерю в один момент, пережил, так ведь? Только упустил тот момент, когда законсервировал свою жизнь в моменте до. В его лофте не изменилось ровным счетом ничего с того момента, когда Джеймс вылетел прочь и взревел мотором своего трижды проклятого харлея. Сяо Чжань не выкинул его вещи, не выбросил все то, что его так бесило (коллекция кристаллов на подоконниках, дурацкие магниты, дешевые вещи с масс-маркета, и даже замороженный стейк палтуса, который намертво вмерз в нижний ящик морозильной камеры), не сменил кодовый замок (день рождения Джеймса в обратном порядке).
Он просто сгреб все его вещи в кабинет, поддерживал приемлемый уровень чистоты и говорил себе, что у него просто нет на это времени и сил. Он нагрузил себя работой, разгребал дела и самого Джеймса, доработав его проекты (последний из них он сдал буквально пять месяцев назад), и, казалось, раз ему не свербит и не мешает, то и что уж тут? Но это был обман.
Желанная иллюзия привычного. И нехватка моральных сил на решительные действия.
Чжань понял это ясно и чисто, когда заметил любопытную тенденцию: все, что он косвенно, намеком или прямо, обозначал «это Джеймса» из дома исчезало. Конечно, если не стоило больших денег. Ван Ибо вынес все кристаллы. Часть из них «случайно разбил», потом врать перестал и просто выносил по одному каждый раз, когда выходил на улицу выбросить мусор.
Исчезли все черные футболки в доме, что были на два размера больше, чем нужно Чжаню.
А значит — не были его.
Жестокой ревизии подверглись все шкафы, ящички и полки кухни. Ван Ибо безжалостно выкинул пачки кофейных зерен с истекшим сроком годности, запасы леденцов, протеиновые смеси, биодобавки, препараты от лысины (здесь Чжань может поклясться, обнаружив эту пачку саше, Ибо мерзко хихикал целую минуту), все найденные в доме резинки для волос (хоть и нуждался в них сам, но упорно пользовался канцелярскими). Фотоаппарат Canon в чехле с «James W.» был продан на таобао. Чжань просто увидел пополнение счета в один прекрасный день, а затем получил краткое пояснение: «В твоей умной книжке о разумном потребительстве был такой совет, но так как у меня особого ничего нет, я решил взять его, ему же уже не нужно, а мне надо было сделать это по плану на день!».
Ван Ибо откопал где-то черную кружку с витиеватым J. Пришел с ней в спальню, когда Чжань рассматривал свои «эскизы от руки для души», разложив те по кровати. Позвал его, заставив вскинуть голову. Плюнул в эту кружку. Затем сказал, что идет ее разбивать и выбрасывать.
И закрыл за собой дверь. Чжань подумал, что это уже как-то ненормально.
А затем почему-то улыбнулся.
Ван Ибо с завидным постоянством употреблял слова «мертвец», «жмурик», «скончавшийся» и «почивший» по отношению к Джеймсу, будто бы на самом деле пытался вдолбить эту истину в мозги Чжаня между делом.
Джеймс мертв. Мертвее мертвого, закопанный на другом континенте.
Ты лично оплачивал пересылку тела. Ты лично присутствовал, хоть тебя пытались выгнать.
Это уже Чжань добавлял сам себе. Он знал, что Джеймс мертв.
Еще он знал, что тот был мертв для него задолго до измены, предательства или физической смерти.
Просто не понимал, в какой момент это случилось и почему.
Любил ли он его вовсе? Или любовь может вот так просто пройти?
Такими вопросами и страданиями может быть занят лишь человек без дел.
Так Чжань осуждал сам себя. И нагружал себя все больше.
До того, как стащил одного патлатого пацана с моста.
Секс все усложнил. Чжань чувствовал это так. Хоть их «времяпровождение» и было неполным, но ведь тоже называлось той самой близостью. Инициатором всегда был Ибо. Не потому что Чжань не хотел. Он просто считал, что все должно происходить только с желания того, кто… ну. Младше. Девятнадцать. Ибо кажется, что он абсолютно точно взрослый. Чжань же даже не уверен в значении этого слова и пугает его другая цифра — тринадцать. Между ними тринадцать лет разницы. Здравый рассудок говорит Чжаню, что это все-таки много. Не критично, окей, но много.
У него никогда такого не было. И хоть желание у них обоюдное, ему нужно быть уверенным в этом на больше, чем сто процентов.
В определенные моменты он видел, что Ибо хочет большего. Только тот не понимал, в каком качестве. Начиналось всегда с его борзого и наглого: прижать, утянуть, влезть в брюки Чжаня, тянуть за волосы, когда тот отсасывает, заставлять стонать в рот, оставлять синяки и засосы, считая, что это верх провяления страсти. Но потом Ибо мог становиться шелковым и шлюховатым. Подставляться под ласку, канючить, даже хныкать, с пыхтением заставлять себя обнимать и до саднящих губ целовать; он любил высовывать язык, расслабленно и покорно, чтобы Чжань шлепал по нему головкой, после того, как кончит. Он слизывал все до последней капли, хоть об этом никто не просил. Казалось, что эту свою сторону Ибо скрывает. Чуть ли не стыдится. Но желания такого рода проявлялись через раз. Чжань предполагает, что это опять-таки напрямую не связано с сексом. Просто через него Ибо пытался добрать все то, чего у него не было.
Искать в сексе чувство заботы и безопасности на самом деле естественно.
Только Ибо, кажется, этого не понимает, а считает свои такие припадки «проявлением слабости».
Чжаню приходится действовать осторожно, чтобы не спугнуть, но при этом и удовлетворить.
Все это кажется запутанной игрой. Горячо — холодно, ближе — дальше.
Они только разложили покупки. Красный бумажный пакет с пуловером лежит на диване. Ибо берет его, бумага мнется под пальцами, трескается от натиска. Он протягивает его и говорит «надень». Чжань не знает, почему молча делает то, что сказано. Не двигаясь с места, принимается расстегивать рубашку. Пуговица за пуговицей. Стянуть и бросить в сторону кресла. Снять майку. Бросить туда же. Ибо все еще держит пакет. Чжань смотрит ему в глаза, когда берет его, продолжает смотреть, пока просто рвет бумагу — пакет заклеен глянцевой наклейкой с золотистым пожеланием «счастливой весны». Неаккуратно. Пакет превращается в красные клочки по полу. Чжань наконец-то опускает взгляд, встряхивая свитер. Больше, чем надо. Размера на три. Он в нем утонет. Чжань надевает его. Ибо наблюдает. Протягивает руку и стягивает кашемир с левого плеча. Почему-то усмехается и шепчет:
— Так ты кажешься бледнее.
Чжань только вскидывает бровь, никак не комментируя происходящее. Это странно, но в такие моменты, когда Ибо рассматривает его, желание растекается по телу так легко и быстро, словно пожар от искры. Дышать становится тяжелее, потому что воздух внезапно густеет. Чжань ничего не делает. Пальцы Ибо скользят по кромке растянутого выреза, проходятся по теплой коже оголенного плеча.
Ибо шепчет: «Ты красивый».
В этих двух словах отчего-то слишком много. Больше, чем кажется.
Только Чжань не понимает, что это.
Ибо оказывается ближе. Чжань думает, что его сейчас поцелуют, но за секунду до — Ибо нагло ныряет под… свитер. Растягивая его еще больше. Чжань чувствует горячее, щекотное дыхание у своей груди, то, как руки крепко сцепили его в замок на пояснице, все под той же тканью, а в итоге Ибо уже прижимается к нему щекой.
Или скорее ухом? Слушает, как сердце стучит?
Чжань медленно обнимает его в ответ. Больше ничего не происходит. Целых минуты три.
Только когда Ибо вылезает из своего убежища, глаза его кажутся красными, Чжань думает, что ему показалось. Ибо сразу же идет к кухонным столешницам, мясу в раковине, говорит, что сейчас все промоет, поставит чайник, и вообще — голодный, как волк.
Добавляет: «пора включить везде свет, одного торшера в углу — мало!».
Чжань смотрит в его спину. Затем говорит «хорошо». Свет включается. Чжань идет за веником. Надо подмести то, что осталось от пакета.
х х х
Воздушное пространство КНР
Боль просыпается позже. Есть эти минуты, когда ты между сном и реальностью, и минуты эти — блаженны. Потому и опасны. Выбираться надо. Или туда, или туда.
— Да, все пошло чуточку не по плану, я так хотел достать тебя легально, но… не суетись. Да не рыпайся ты, блядь! Ебанные… блядь, да что ж ты…
Хань Фэй помнит плохо. Был обычный день. Серый, долгий. Звук сбора мусора за две минуты до подъема. Ледяной душ. Перепалка в столовой, которая стала дракой. Фэй наблюдал за ней из своего угла, методично и спокойно закладывая рис пластмассовой ложкой себе в рот.
Пробежка по бетонному двору. Часы работы — в этот раз он решил потратить их на тренировку, а затем ушел «чинить лампы». Его обязательная смена по электрике. Обед, в два раза меньше, чем завтрак. Пересчет заключенных. Уборка. Он елозил тряпкой в каком-то «новом химическом растворе», который пах хуже предыдущего, пытаясь сделать пол в «общей комнате» менее загаженным. Размазывал плевки и сгребал в одну кучу шелуху от семечек.
Дао Цзэ подкинул ему пачку просохших сигарет, взамен на демонстрацию общения, чтобы «привилигировать себя». Фэй наслушался новых сплетен. О себе в том числе.
Правда, последняя странным образом задела. Он даже повернулся, чтобы посмотреть в круглую рожу Дао Цзы с его рыбьими глазками.
«Адвокат Ли, который все ходит к тебе, довольно известный в узких кругах, вытащил Черного Дракона, знаешь? Два года назад. Из тюрьмы в Бангкоке, это же вообще пиздец.
Правда, пидор говорят, но это даже плюс, да?».
— Я же сказал тебе, не суетись, почему ты не можешь просто лежать, блядь?! Не рыпайся!
Хань Фэй хотел бы вообще понять, что этот голос имеет в виду.
Голос, естественно, Ли Хенга. В каком смысле он «суетится»?
У него кажется голова отбита, почки перебиты, под ребрами гулко пульсирует, у шеи — жарко. Так, словно всего в сантиметре раскаленный металл. А Фэй в принципе знает, о чем говорит. Только потом до него доходят остальные звуки: собственные гортанные хрипы от боли, бесконечная пулеметная очередь лопастей вертолета (это звучание он тоже прекрасно знает), шум воздушных масс, какой-то клокочущий звук до кучи.
— Обязательно было его так пиздить, скажи мне?!
— Ты сказал, все должно выглядеть похищением, а не побегом, плюс — он первый начал! И это ты его вырубил, понятно?! Мог как-то иначе его…
— Завали ебальник!
— Ты же сам спросил, я — ответил!
Фэй с усилием поворачивается с бока на живот. Так почему-то легче. Вертолет — не то место, где в принципе можно улечься с комфортом во весь рост, но, кажется, это военная модель. Тут и не такое можно. Мозг продолжает анализировать, игнорируя плачевное состояние тела.
Сам Фэй предпочел бы вспомнить. Обычный день. Что потом?
Сирены. Дымовые шашки. Люди в черных шлемах. Много людей в черных шлемах. На него охотились по всей тюрьме. Он был загнанным зверем, бился до последнего, пока не отключился. Кажется, взяли его в кухне. Он помнит, как из последних сил мочил одного головой в кипящем чане… черт. Стоп.
Перекричать гул вертолета практически невозможно. Фэй и не пытается. Просто сдвигает голову так, чтобы лежать другой щекой на холодном металле и пытается сфокусироваться на адвокате, мать его, Ли. Вот, кто суетится. Зубами разрывает упаковку, кажется, от марли. Фэй сцепливает зубы, когда чувствует — тот прижимает этот кусок марли к его шее.
Хенг старается звучать четко и громко:
— Я нанес специальный гель! Надо немного подержать так, ты вертишься, грязь повсюду собираешь, у тебя там ожог! Слышишь?! Ожог до мяса просто!
— Это ты меня вырубил?
— Что?!
Собственно, а какая разница? Фэй уверен — он. Память наконец-то подсказывает.
Повернулся — а там эта рыжая гадина, в руках держит какую-то дуру, таких автоматов Фэй еще не видел, базука скорее. Шлем где-то потерял, все при той же форме. Черная защита, черное все, берцы черные. Смотрит зло, сказал что-то, Фэй к тому моменту уже несколько отбитым был, не разобрал. А затем этот психованный как ебнет со всей дури той самой базукой по морде. Раз. Два. И все.
Фэй так охуел, что почему-то не сообразил дать сдачи.
Вспышка света и темнота.
Убить же блядь мог, сволочь.
Но не убил. И на том спасибо. Наверное.
Фэй смотрит, пока может. Хенг наклоняется ниже, нелепый в этих огромных наушниках. Волосы развеваются медными плетьми, солнечные лучи слепят, путаются в этих волосах. Адвокат Ли проявляет смекалку, когда практически вжимается губами в его ухо.
Четкий шепот сейчас лучше, чем крики.
— Извини, что вырубил, но ты не хотел слушать и не понимал знаков! Сейчас я вколю тебе сильный обезбол, хорошо? Тебя может снова вырубить, скорее всего, но так и лучше, окей? Мы летим в Шанхай. Шанхай, слышишь? Моргни, если понял! Я же не отбил тебе мозги?
Хенг поднимает голову и смотрит на него с таким искренне обеспокоенным взглядом, что становится смешно. Фэй, кажется, сменил хрип на фырчание. Прикрывает глаза. А затем находит в себе силы на жест: поднимает руку и показывает адвокату Ли средний палец.
Тот что-то говорит, не слышно, зато Фэй видит — улыбается. Ладно.
Фэй думает — коли уж. Кажется, тот уже. Фэй не заметил.
Хань Фэй отрубается снова. У него есть подозрение, что это его последний шанс выспаться.
9. 指路星
х х х
IX.
有趣的靈魂千篇一律,
扭曲的靈魂各有各的變態。
— духовное начало каждого одинаково,
но каждая душа изломана по-своему.
Шанхай
Зима в Шанхае — любовница и потому стерва. На словах температура от условного нуля до десяти градусов кажется смешным испытанием, изредка та падает и до минуса пяти, вот, когда истинный ледяной ад расползается по мегаполису. В чем же дело?
Влажность.
Существование в охлажденном геле воздуха, словно заложник снежного шара, такая себе радость. Толстое стекло неба, за которым «мокрый воздух», наполненный мельчайшими частичками колкого льда. Ты вдыхаешь его, ты растапливаешь его своим теплом, ты наполняешься водой сполна. Тонешь.
Зимой в Шанхае ты тонешь. Зима утянет тебя на самое дно и запретит ловить ртом вдох.
Рот можно только покорно открыть и глотать все, что Шанхай хочет в тебя влить.
Хенг обожает шанхайскую зиму и готов глотать ее досуха, хоть это и невозможно. Но, конечно, наблюдать за ней лучше из теплого кокона обогретых комнат.
Фильтр горчит, Хенг сжимает его губами сильнее, пока тянется за распечатанным дельцем Хань Фэя. Всплеск воды, когда он вытягивает правую ногу, чтобы упереться стопой в бортик ванны, еще один, когда устраивается удобнее, соскальзывая спиной чуть ниже. Тишина. Телефон слишком далеко, чтобы заставить его прокрутить плейлист по новой. Пепел с сигареты падает поверх пены. Хенг в очередной раз бездумно проходится по строчкам.
Количество дерьма, которое решили повесить на Хань Фэя, зашкаливает.
Правда из этого — малый процент, но понять бы еще, что именно.
Массовый расстрел семьи Цзянь? Положить восемь человек в день рождения младшего члена семьи и получить за это только тот пшик, что получил Фэй? Хрень. Или подстраховка, чтобы накидывать срок за сроком, когда приблизится время освобождения? Черт знает. Зачем вообще нужны все эти «хитрые» лазейки, власть делает, что хочет, и никого не спрашивает.
Они могли засадить Фэя и просто на пожизненное. Материала тут хватает.
Какой-то бред…или сделки? Хань Фэй пошел на сделку с правительством, так?
Но разве это уже имеет значение? Какое хорошее чувство — можно не париться.
Хенг выдыхает дым, медлит, затем вдавливает окурок ровно в середину перечня «грехов» Хань Фэя. Где-то между разбойным нападением и очередным убийством.
Когда вода сольется, вымокшие листы прилипнут ко дну ванны.
х х х
Пряный и острый запах жареной рыбы плыл от кухни. Хенг учуял его в середине коридора, кутаясь в свой едва ли плотный халат, после того, как перевязал влажные волосы. Вряд ли кто-то мог вломиться в его дом в желании приготовить ужин, так что оставался лишь один вариант — гость решил встать с постели.
После горячей ванны с обилием масел и сладкой пены, было трудно сосредоточиться и размышлять трезво, а не лениво. Хенг усмехается, заставляя себя идти все так же неспеша. Он понимает, что от гостя можно ожидать чего угодно. Честно говоря, Хенг предполагал, что тот захочет его задушить или зарезать, каждый раз, когда заходил менять повязки и пытаться разговорить. Кажется, господин Хань смекнул, что Хенг не выносит тишины, и если в стенах переговорной это еще можно было пережить и играть в игру, то когда стены рухнули — сдерживаться стало сложнее. Слова лились из Хенга рекой, но вряд ли имели цену.
Он испробовал все. Честный монолог, где раскладывал по пунктам максимум из дозволенного. Провокационные вопросы. Попытки поддеть. Вызвать ностальгию. Обеспокоенность. Грязную игру с манипулированием «судьбой ученика». И даже — особо тщательные обработки ушибов, порезов и ожога, чтобы господин Хань хотя бы шипел и матерился сквозь зубы.
Если бы не томограф сразу после вертолета, Хенг мог бы справедливо предположить, что господин Хань все-таки повредил мозг в этой заварушке. Может, ему отбило речевой аппарат?
Но нет. Господин Хань хоть и был отрублен сильнодействующими препаратами (адвокат Ли несколько перестарался с дозой), но никакого кровоизлияния или чего-то подобного МРТ не показало. У этого молчания не было оправданий. Только умысел.
— Захотел чего-то получше, чем мои похлебки и заказная еда?
Хенг не знает, почему опустил всю вежливость и обратился к Хань Фэю без вступлений и «титулов». Даже без обычного «господин». Он опирается боком о дверной проем. Хань Фэй не включил много света, лишь светодиоды над варочной поверхностью. В узкие высокие окна бьется неоновый свет вывески на торце дома. Витиеватые иероглифы складываются в пожелание счастливой весны. Господин Хань коротко оборачивается, мажет взглядом по Хенгу, ничего не говорит. Занят прожаркой рыбного филе. Хенг даже не знал, что то у него есть. Как и куча специй, масел и, судя по следам на разделочной доске, овощей. Он предпочитал полуфабрикаты, которые не требовали ничего, кроме кипятка, либо номера семь, десять, двадцать восемь и три из забегаловки через дом.
Та игнорировала технологический прогресс и принимала заказы по старинке — через телефонный звонок и диктовку номеров из раскладки меню. За это Хенг любил ее отдельным пунктом.
Он отлепляется от дверного косяка, босые ноги ступают по линолеуму под мрамор, адвокат Ли рискует подойти ближе и даже заглянуть в вок. Запах жареного и острого добирается до носа, Хенг отступает на шаг и встает рядом, зачем-то переставляет бутылек кунжутного масла на место бутылки с оливковым. Затем просто принимается убирать все на полки. Спрашивает, предполагая, что его снова проигнорируют:
— Ты не снял с рыбы шкурку?
Молчание. Хенг хмыкает себе под нос, тянется к полке повыше, чтобы поставить на нее банку с хлопьями чили. Приходится встать на носочки. Хенг водружает на четверть, подпихивает пальцами. А затем его предает гравитация, банка должна была вот-вот упасть, рассыпаться алым снегом поверх его головы, но Хань Фэй успевает пропихнуть ее подальше. Одним, спокойным движением. Затем добавляет:
— Если бы я снял, рыба превратилась бы в паштет. Сядь и не мешайся.
Хенгу приходится смотреть на гостя снизу вверх. Это было нечастым явлением за все их предыдущее общение.
В тюрьме они предпочительно сидели и Хенг появлялся в переговорной всегда чуть позже (или не чуть), — Фэй уже сидел. Вальяжно и флегматично. Бесил одним своим видом. Секунды, когда его уводили, а Хенг собирался, не могли подарить особого акцента и понимания разницы в росте.
Затем — та бойня по тюрьме, но, честно говоря, во весь рост Хань Фэй перед ним стоял от силы секунд десять. После он преимущественно валялся. Но оказалось, что тот выше.
Неоспоримо и нехило. На полголовы. И это при том, что сам Хенг коротышкой вовсе не был.
Он не знает, почему завис. Приходит в себя, когда Хань Фэй отворачивается и снова отдает все свое внимание готовке. Хенг сжевывает щеку изнутри. Он не идет садиться за стол и покорно ждать, спасибо большое, он даже и есть не так уж сильно хочет. Нужно высушить волосы и сделать пару звонков. Вот, что он планировал до того, как этот наглый гад оккупировал его кухню и отчего-то решил, что имеет право на ней хозяйничать.
Врач ясно дал понять, что тот должен быть прикован к постели и набираться сил, а не шастать тут…
Хенг морщится от своих мыслей, словно от зубной боли. Садится на край кровати, осматривает излюбленный хаос вокруг себя долгим взглядом. На столе — пустые коробки из-под риса с эмблемой ресторанчика, в каждой из них по паре палочек. Копии документов и протоколов заседаний. Раскрытый блокнот, где Хенг с упоением шифровал свои заметки. Старая привычка, можно сказать — хобби. Ноутбук, поверх которого лежат очередные распечатки. Адвокат Ли выдыхает «ладно» и дергает на себя нижний ящик тумбы у кровати, чтобы вытащить фен.
План на вечер прост и ясен — привести себя в порядок и попытаться разговорить господина Ханя еще раз. Время поджимает, терпение заканчивается. И не только самого Ли. Раз уж тот сам вышел из логова гостевой спальни, да еще и снизошел до пояснения о рыбе, возможно, это знак, что лед тронулся? Может, тот по жизни тугодум и просто «обрабатывал» всю информацию, которую Хенг вылил на него за эти дни? Адвокат Ли решает для себя, что все именно так. Также успешно, как и игнорирует факт того, что когда он завис на господине Хане, его прошило желанием и ужасом так остро и явно, что удивительно, как он то ли не кинулся тому на шею, то ли не убежал как ошпаренный. Растет. Все-таки психотерапевт Чень прав — за последние два года он добился немалых успехов. Он бы им гордился.
х х х
— Так и… что это за рыба?
Кинзы господин Хань добавил щедро. Только сам почему-то ее не особо ел. Хенг поддевает кусок рыбы в густом, темно-красном соусе, подносит ко рту и откусывает мягкое, горячее филе. Рот заполнился слюной еще на половине пути. И не зря. Хань Фэй сидит не напротив, как Хенг предполагал, а справа. Это несколько сбивает с толку. В каком-то смысле Хенг уже привык к другой расстановке сил.
— Карп. Ты сказал, что все пошло не по плану, но не говорил, каким тот был изначально.
Фэй переводит на него взгляд, мол, объяснись. Хенг жует. А когда люди жуют, они не должны разговаривать. Это то, что он надеялся, выражает его собственный взгляд. Хань Фэю чертовски идет даже эта обычная синяя футболка без ничего и самые обычные домашние брюки из черного трикотажа. И это очень плохо. Валяющийся в постели под одеялом так, что видна только голова и гидрогелевая повязка на шее — вот, что устраивало Хенга от и до. А теперь он даже откопал какие-то узкие джинсы, натянул на себя майку под просторную рубашку, которую не собирался застегивать. Расчесался, мать его, и не стал завязывать волосы, о нет. Мог бы еще табличку на себя повесить — «пидор со стажем, подарю волшебную ночь, только попроси». Хенг жалеет, что не налил себе чего покрепче сока. Еду невозможно жевать бесконечно, та проглатывается автоматически рано или поздно. Хенг усмехается и тянется за стаканом. Фэй жует и следит за ним неотрывно.
Зараза.
— М-м. Какая разница уже, каким был план… ладно. Я хотел вытащить тебя легально через программу «Великая длань». Это…новшество, которое частично введено, во всяком случае тут, в Шанхае. Искусственный интеллект вместо главного судьи. Учитывая то, что большая часть твоего дела — фабрикация чистой воды… Великая длань бы отклонила их по причине недостатка доказательств. Проблема в том, что они хотели засадить тебя на пожизненное, но извращенным способом. Как только бы подходил твой первый срок, они бы открывали на тебя новое дело и сажали бы дальше. Таков был план. Не знаю, с кем ты договаривался, но твои надежды «спокойно отсидеть» — очень смешно… не выпустили бы тебя. Вас. Господин Хань. Со всем уважением.
— С уважением уже поздно, продолжай. Что пошло не так?
Хенг опускает взгляд и елозит палочками по кускам рыбы. Цепляет побольше овощей с арахисом, сует в рот. Жует, чуть приоткрыв губы из-за остроты. Запивает. Смотрит перед собой и наконец-то продолжает:
— Правительство любит эту программу. Но трудно получить разрешение на участие. В принципе, для «воспитания» этой системы нужно как можно больше дел и дел разных. Я смог убедить, что твое — интересное и поставит перед ИИ сложную задачку. Обещал, что как тот скажет, так и будет, это главное условие. Бывали случаи, что Длань наоборот удваивала наказание, хоть все считали, что будет иначе. Но затем ее логическая выкладка… в общем. Все было обговорено. А затем… того человека, с которым я договорился и который выписал квоту, застрелили в затылок во время утренней пробежки. Я понял, что запахло гарью. Даже если это и не было прямо связано с моей просьбой, и это их мутки… не знаю. Рисковать не хотелось. Время поджимало. И пришлось браться за план Б.
— Как ты провернул план Б?
— Банально. Подкупил кое-кого в верхушке через сдачу главаря одной из новых банд, заноза в жопе для всех, мнят о себе слишком много, никому не нравятся. Подкупил правую руку главы этой банды, чтобы они взяли ответственность за твое похищение «в личных целях». Тогда у органов порядка появилась реальная причина взять под стражу главу, они не могли их ни на чем поймать последние года два. А правая рука стала главой новой. Если включишь новости, то ты — звезда этой недели. Твое местонахождение неизвестно, репортеры плетут всякую чушь про какие-то личные счеты и наперебой утверждают, что твою голову наверняка скоро найдут у какого-нибудь притока Янцзы. Все обожают страшилки в праздничные периоды, да? Усиливает чувство безопасности и ценность того, что ты обычный гражданин с обычной семьей и твоя голова никому не нужна…
— Где Ма? Ты ни разу не упомянул ее. Хоть сказал, что это ей зачем-то нужно меня вытащить. Видимо, любой ценой.
Самое время подавиться. Драматично так. Чтобы Хань Фэю либо пришлось его спасать, либо — добивать. Хенг проходится языком по зубам, тянется к соку. Гранатовый и терпкий. Холодный. Идеально к такой рыбе. Глоток, два. Хань Фэй наблюдает за ним, откинулся на спинку стула. Снова расставил ноги, сидит привычно вальяжно и спокойно. Бесит. Почему так бесит-то?! Побрился бы хоть, раз встал. Хотя, ему идет… да блядь.
— Ты проходил мимо нее сегодня. Полка в коридоре. Рядом с вазой с ветвями физалиса. Она не хотела ни быть рассеянной над морем или еще какую-то чушь. Табличку в колумбарии тоже не хотела. Пока торчит там, я ничего толком не…
— Так она мертва.
— М-м.
— Но ты меня вытащил.
— М-м.
— Зачем?
— Ее воля. Одна из.
— Она мертва. Зачем исполнять ее завещание, адвокат Ли? И как тогда могут «пострадать твои яйца», которые тебе так дороги и кто тебе платит?
— Ох, ты такой разговорчивый, я могу и привыкнуть…
— Хенг.
Очень трудно не дернуться, когда твое имя произносят таким тоном и так твердо. Хенг наконец-то смотрит на своего гостя. Палочки тот отложил (хорошо, а то фактически холодное оружие), сидит все в той же позе. Хенг чуть ведет плечом, откладывает свои палочки на подставку. Рыба вкусная, что пиздец, жевать бы ее, а не языками чесать.
Хенг думает, какие слова подобрать, начинает издалека:
— Я же уже вводил тебя в курс дела…выжившие семьи пришли к соглашению, что для того, чтобы наладить систему, нужна, как по старинке, семья-глава и в принципе объединение. Учитывая то, как наглеет правительство, как наливаются свежей кровью новые банды, которые хотят наследовать идеологию Стигийских… они чаще всего тупые, конечно, но все-таки, спорить с огнестрельным тяжко, банды быстро появляются, наносят много ущерба, и также быстро распадаются… Никто не хочет брать такую ответственность, но знают, что есть те люди, которые могли бы… вернее, остался ты.
— Они хотят того, кто возьмет ответственность и того, кого можно в итоге винить.
— Или того, кто может все возродить и навести порядок.
— Кто платит тебе и почему ты исполняешь волю Ма? Кто ты такой вообще? Вытаскиваешь за деньги всякую мразь из тюрем, адвокат дьявола, это я еще понять могу. Но не сходится, адвокат Ли. Ты не принадлежишь никакому из…
— Нет, конечно. Не успел дать клятву, но заочно верен. Знаешь, все всегда говорят о ней как о чокнутой старухе, страшной карге, садистке и так далее. Но для меня она была другой. А яйца она мне и в мире мертвых подвесить сможет. Белые веера* должны выживать и передавать друг другу знания, ведь они отвечают за следующие поколения семей. Потому они воспитываются подальше, отдельно, наблюдая и ведая, но не контактируя, пока не приходит время. Из тебя воспитывали следующего желтого дракона*, это совершенно другая история.
— Она сожгла наш Дом. Она убила…
— А ты хотел, чтобы всех детей забрали Стигийские? Измывались над ними, насиловали, рубили на органы, проводили опыты со своей наркотой и смесями? Сделали своими рабами? Пушечным мясом? Пешками для тюремных сроков?
— Если бы она сказала…
— Ты бы не слушал. Знаешь, я знаком с тобой всего ничего, но я вижу — ты бы не слушал и не послушал. Не было никакого другого плана. И быть не могло. Как видишь, через столько лет, половина ее завещания про то, как все исправить и возродить Дом, а другая — про тебя. На тот момент желтому дракону уже перерубили глотку. То, что ты оказался в тюрьме в итоге — тебя обезопасило. Она не «сдала» тебя. Она тебя спасла. И в глубине души ты знаешь это. Просто не можешь простить ей то, на что сам не был способен.
Молчание. Виснет вязкой массой между. Хенг опускает взгляд в тарелку и снова берется за палочки. Побольше рыбы, сунуть в рот, жевать…
— Кем она была для тебя?
Хенг откидывает палочки, те падают недалеко от тарелки, оставляя после себя след от соуса. Хенг жует, сложив руки на груди. Смотрит перед собой. Не тугодум, ведь. То ли издевается, то ли просто хочет услышать. Конечно Хенг не похож на обычного воспитанника, даже если из вееров.
Те тоже мертвы. Хенг — явно особенный. Явно тот, кому болит.
Кто все эти годы набирался терпения, опыта, дурости…
— Мать. Она — моя мать. Теперь мы можем доесть для начала? Рыба — вкусная. Я — голодный. Ты — мудак. На этом пока закончим, продолжим после.
Удивительно, но Фэй правда ничего больше не говорит. Придвигается обратно к столу и начинает жевать рыбу. Тишина больше не кажется вязкой. Она почти уютная. Пару минут спустя, Хань Фэй спрашивает, смотря куда-то перед собой:
— Пива у тебя тут нет?
Хенг усмехается в свою рыбу, мотает головой и говорит, прежде чем закинуть очередную порцию в рот: «Только финская водка». Еще молчание. Затем хриплое и краткое «где?».
Хенг переводит взгляд на господина Хань Фэя и не сдерживает улыбки. Вот это уже другой разговор.
Он обещает, что принесет и разольет им. Только дожует.
Чунцин
Ночь рухнула на Чунцин как-то внезапно. Так ощущалось. Вот был день, яркий и промозглый, — Сяо Чжань провел его в офисе перед экраном с бесконечными схемами и чертежами, утверждая проекты, — а вот уже и ночь. Можно выдохнуть.
Ван Ибо еще не вернулся. Редкость, когда тот оказывается дома позже, чем Чжань. Непривычно. Хоть должно быть наоборот.
Разве Чжань не привык к своему одиночеству? Смешно.
Все — обман.
Все, что он говорит себе — сплошная ложь. Потому что правда слишком болезненна.
На подоконнике теперь полно места. Чжань задумчиво смотрит на фигурку Сунь Укуна. Затем на статуэтку дракона. Не может припомнить его имя, Ибо что-то говорил…
Вспоминается проигрыватель. Джеймс не понимал любовь Чжаня и его искреннее очарование «раритетным барахлом». Меж тем, Чжань — гордый владелец пары виниловых проигрывателей и трех печатных машинок. Пора вытащить что-то одно, наверное, лучше проигрыватель.
Место на подоконнике займет законно и практично. Этим Чжань и занимается, забыв поесть. Разогретый в духовке ужин остается стынуть. Курица с запеченными фруктами под острым соусом. Не таким острым, как обычно.
Первая пластинка, которую Чжань вытаскивает, привлекает обложкой: коллаж из множества людей на фоне словно выцветшей фотографии леса. Незнакомые слова поверх, которые не разобрать. Но Чжань помнит ее. Помнит, где купил и почему. Вытаскивает из тонкой бумаги, укладывает на проигрыватель. Тончайший кончик алмазной иглы начинает свой путь по извивам винила, ее движения преобразовываются в частоту и амплитуду сигнала, все это становится музыкой. Мягким перебором гитары, спокойным и глубоким мужским голосом с легким вибрато на долгих нотах. Единственное более менее знакомое слово среди всего — Luna. На этой пластинке всего две песни. С одной стороны — луна, с другой — солнце. Они записаны несколько раз кряду.
Чжань помнит пальцы старика, прожженные курением сигар, от того и потемневшие, с большим количеством колец. Чжань купил эту пластинку у него за бесценок в каком-то опаленном солнцем поселке Испании. Он не знал, что на ней.
А когда услышал — сразу же влюбился. В нечто, что эта музыка ему дарила.
Странное, меланхолично-сладкое чувство особого покоя. И в чем-то — приговора. Трудно объяснить. Можно только слушать.
Чжань растягивается на мягком ворсе ковра. Музыка продолжает литься, обрамленная теплым шорохом и треском пластины. Так бы вел себя огонь небольшого костра. Он горит сейчас внутри, греет все тело, от обветренных губ до кончиков пальцев ног.
Чжань не знает, сколько раз подряд уже прослушал этот трек. Ему даже кажется, он стал разбирать отдельные фразы и отдаленно понимать их. Чем-то вроде шестого чувства. Дверной замок коротко пищит, затем дребезжат ключи. Ван Ибо закрывает дверь изнутри. На пол падает рюкзак. Чжань не поворачивает голову и не открывает глаза. Слушает, как в музыку вплетаются обыденные звуки: Ван Ибо скинул обувь, прошел вглубь. Оставил карточку и ключи (с дурацким брелком футбольного мяча) на столе. Подходит ближе.
Шорох, вздох, хриплый шепот: «Гэ? Ты спишь?». Чжань невольно улыбается и шепчет в ответ: «Нет». Ван Ибо укладывается на ковер рядом, ничего не спрашивая. Музыка начинает литься с начала. Мягкий перебор гитары. Затем — плавное вступление голоса.
Чжань все еще молчит и глаза его закрыты. Он чувствует, как сначала теплые пальцы Ибо скользят по его шее, затем он опускается ладонью на середину груди. Оставляет руку там. Чжань не думает, когда накрывает ее своей. Легко сжимает, поглаживает. Ибо спрашивает: «Тяжелый день?».
Чжань мычит что-то похожее на утверждение. Ибо продолжает: «Там очень яркая и большая луна, ты видел?». Чжань понимает, что нет. Не видел. Не смотрел в небо, когда ехал, когда шел от парковки к дому, хоть уже стемнело. И потом не смотрел. В окно, например. Но зато он слышит.
В песне. Там ведь что-то про луну, да?
Чжань тянет ладонь Ибо ближе ко рту, касается губами подушечек пальцев, спускается ниже, целует во внутреннюю сторону. Ровно посередине. Где-то там линия жизни, судьбы, любви… хоть в какую-то он попал, наверное. Хриплый смешок. «Что ты делаешь, гэ?». Чжань знает ответ, но не скажет его. Он прекрасно знает, что делает. Открыв глаза, он сразу же смотрит в те, что напротив. Ибо подпер голову свободной рукой, его взгляд теплый и слегка насмешливый. Улыбка касается губ.
Чжань касается их тоже. Прихватив за шею и прижав к себе. Ибо нравится. Ибо укладывается сверху. Теперь мягкость ковра не так уж спасает. Музыка слегка ускоряется. О луне поют все чаще. Чжань принимает решение, которое не оформишь в слова. Задирает футболку Ибо, скользит ладонями от поясницы до середины лопаток. Ибо распаляется быстрее лесного пожара, ему нужно так мало… ему нужно так много. Ему нужен весь Чжань.
Ибо сидит на его бедрах и расстегивает пуговицы рубашки. Те на удивление легко слушаются, хоть Ибо не терпится. Чжань ему никак не помогает, только гладит по рукам, от кистей до сгибов, выше и обратно вниз. Проходится кромкой ногтей. Ибо наконец-то может касаться губами кожи груди, вести языком к соску, чтобы прихватить, укусить ниже. Чжань зарывается пальцами в его волосы и тянет с силой. Ибо усмехается в его кожу, задевает зубами, опускается еще ниже. Чжань тянет к себе резко, пресекая этот путь, сразу же вливается в поцелуй, замедляет в нем ласку, движения становятся тягучими и более полными — не касаться, а вжиматься друг в друга, дышать глубже и тяжелее, вязнуть в ощущении жара друг от друга. Музыка останавливается.
Дыхание заполняет собой все пространство. Ван Ибо говорит у губ:
— У тебя под рубашкой не было майки.
— В моих планах ты был дома раньше меня. Тебя раздражает стягивать ее каждый раз. Разве нет?
Ибо хочется передразнить это «разве нет». Что-то злит его, и это что-то на самом деле никак не связано с Чжанем. Просто тот сейчас под ним. Просто его стояк трется о собственный.
Просто, просто, просто… просто скоро все станет не только сложным, но и хуевым. Это сводит его с ума. Ибо касается губами шеи, ведет языком, пальцы вздергивают ремень, не просто расстегивают, еще и вытаскивают из шлеек. Он хочет… нет, с Чжанем так нельзя.
Да почему, блядь?!
Ван Ибо выпрямляется на его бедрах. Чжань ведет ладонями от его бедер к ребрам, вжимает ладонь у живота, скользит к джинсам и наконец-то расстегивает их. Спускает вместе с бельем. Ибо сглатывает и смотрит в его глаза, ничего не предпринимая. Только ремень отбросил.
Пальцы обхватывают член. Скользят по нему. Степенно вверх, крайняя плоть собирается и закрывает головку, спокойно вниз, кожица стягивается, оголяя головку. Ибо наклоняется, прихватывая губы. Целует и целует, медленно, подхватывая плавный ритм ласки. Нетерпение сдавливает жгутом, но он заставляет себя выжидать. Он…
— Если ты хочешь… мы можем… пойти дальше. Мне все равно, дать или брать, слышишь?
Блядь. Это будет неправильно. Все это будет неправильно, потому что… Ибо мотает головой, целует снова и где-то в середине ласки слышится приглушенное «замолчи». Чжань слушается. Он думает, что сегодня все пойдет по обычному раскладу. Почти так и получается. Ибо отсасывает ему, качественно и тщательно, выцеловывает по низу живота, собирает белесые потеки с кожи языком. Целует. Целует долго, так как любит. А затем уходит в душ, не ожидая ничего в ответ, и, кажется, даже не желая. Чжань остается лежать на ковре, слушая вместо музыки, как льется вода.
Почему-то ему становится паршиво, как еще никогда за последние месяцы.
х х х
Они не пара. Они не устанавливали никаких особых правил. Жили, потому что хотели так жить. Оставаться, не уходить. Вот, в чем проблема. Ван Ибо впервые хочет остаться, а не уйти.
И он не знает, что с этим делать.
Перед глазами мелькает новостная сводка, где фотографию брата разместили в правом верхнем углу, зачитывая бездушные строчки про похищение, успешное взятие главы какой-то там банды (просто смешно), и вместо радости от очевидного вывода — брат на свободе и, видимо, «хурма» удалась, — он ощутил раздражение и страх. Его новый, неопознанный вид.
Как бы он поступил и что чувствовал, если бы Сяо Чжаня не было в его жизни?
Радовался, затаился бы и ждал знака, встречи с братом. У них есть свои шифры и способы, да и не сказать, что Ван Ибо так уж тщательно скрывался в последнее время.
Расслабился. Дал слабину. Забылся.
Был почти что счастлив.
И теперь… вполне возможно, что и сам Чжань может оказаться в опасности. Информация о том, что один из воспитанников выжил, не была таким уж секретом. Кому надо, может сопоставить два и два, просто надо надеяться, что это никому не нужно. Но Ибо не настолько наивен.
Король возвращается, так ведь? Охота началась.
Фэй скоро найдет его. И все его обещания про обычную жизнь обычных людей — желанный обман для них обоих. То, что поддерживало их двоих все это время. Ибо не злится. В конце концов, что еще можно было говорить и обещать четырнадцатилетнему пацану? Да и Ибо знал — в тот момент Хань Фэй верил в то, что обещал. Просто в их жизни снова что-то пошло не так. Ибо не знает, что делать.
Зато знает, чего точно делать не хочет. Не хочет спать с Сяо Чжанем до конца и так, чтобы потом молча уйти. Не хочет, чтобы тот все знал, потому что знания часто приводят к опасности. Не хочет, чтобы тот в ней был. Не хочет ему своей жизни. Но и не хочет… не хочет…
— Бо-ди? Ты там в порядке? Льешь уже так долго…
Ван Ибо закрывает кран. Вода перестает падать на него ливнем. Он отодвигает створку душа, Чжань оказывается уже внутри ванной, войдя без спроса. Протягивает ему полотенце, склонив голову набок. Глаза покрасневшие, но это от линз. Чжань спрашивает: «Что случилось?».
Коварно. Припереть Ибо в тот момент, когда он голый, распаренный, и да, несколько растерянный. Стоять тут со своим сосредоточенно взрослым видом, обманчиво спокойным. От рубашки Чжань уже избавился, стоит в белой футболке и домашних идиотских шортах. Ибо оборачивает бедра полотенцем, заправляет край, чтобы не сползло, кивает бездумно вместо ответа, хоть этот жест совсем не подходит. Чжань наблюдает за ним. Затем накидывает полотенце поменьше на голову и принимается ерошить волосы. Высушивать.
— Извини, я, может, не подумал…если у тебя никогда не было опыта такого рода на самом деле, это ничего… ты просто ведешь себя так, словно… тебе не нужно казаться для меня более опытным, окей?
Ван Ибо горько усмехается. Ну вот как? Ему бы хотелось быть всем тем, что Чжань видит в нем и что предполагает. Ему бы хотелось жить в его мире целиком и полностью. Забыть о том, кто он и зачем. Отказаться от всего. Можно было бы, наверное. Но как тогда жить с обратной стороной медали такого решения? С чувством того, что ты предал Семью? Брата? С чувством, что затаился окончательно, как последняя жалкая крыса и делаешь вид, что живешь нормально?
Разве он может и разве создан для такого? Рано или поздно он превратит свою и чужую жизни в фарш, спасибо, если не буквально. А прошлое все равно его настигнет. У него в мозгах и сердце изначально не так, что тут сделаешь. Может, это звучит слишком драматично. Но так он чувствует сейчас. И пора бы в этом признаться. Вслух. Хотя бы в части всего, но так, чтобы Чжань понял, но не оказался ни целью, ни средством. Надо просто надеяться, что Ибо не настолько налажал, как боится. Ему уже начало казаться, что за ним есть хвост. Паранойя или простое следствие?
Кто разберет.
Он пообещает, что он вернется, точно. Хотя бы так.
Чжань перестает ерошить его волосы и кидает полотенце куда-то в сторону корзины для белья. Неуверенно ему улыбается. Полный пиздец. Ибо приоткрывает губы, затем чешет по щеке, опускает взгляд. Как сказать? Что именно сказать?
— Я не хочу с тобой… трахаться.
— М… хорошо, ладно, я понял тебя.
— Нет. Я хочу, но не так.
— А как?
Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. От нелепости ситуации Ибо улыбается, затем качает головой. Смотрит куда-то за плечо Чжаня. Там приоткрытая дверь. Пар из ванной выдыхается через эту щель. Ибо снова смотрит на Чжаня. Затем говорит:
— Я в тебя влюбился, окей? Но мне скоро придется уйти. Я не хочу спать с тобой, чтобы потом уйти. Это будет неправильно и плохо.
Бровь Сяо Чжаня поднимается как и всегда, когда он не просто чего-то не понимает, но и это чего-то явно слегонца осуждает. Ван Ибо прочищает горло и трет по шее. Место и время для разговора — просто охренительны. Что ж за день такой сегодня…
— В твоем понимании… весь предыдущий секс был не особо секс, и не так считается, и можно отсосать и уйти, но не можно дать себя трахнуть или трахнуть и уйти? Хоть, ладно, мы клятв друг другу не давали и это вообще все…
— Чжань. Я сказал, что влюбился в тебя.
— Да, я слышал. Еще я слышал, что ты собираешься уходить. Когда?
Ван Ибо понимает, что собственное смятение нервно курит по сравнению с тем, что творится с Чжанем сейчас. Его чуть было не колотит и это совсем на него не похоже. Ибо рискует и подходит ближе, сжимая чужие плечи. Со стороны все это весьма нелепо. Он знает. И бесит себя больше, чем наверное, бесит сейчас Сяо Чжаня.
— Окей, не так. Мне кажется, что я не просто влюбился, а что люблю тебя. И поэтому мне надо уйти.
— Что за хуйню ты сейчас…
Наверное, Сяо Чжань хотел продолжить словом «несешь», но весь мир прерывается на четкий, оглущающий миг выстрела. Сам он не такой громкий, как дребезг оконных стекол. Ибо обнаруживает, что накрыл собой Чжаня, дверь в ванную тот каким-то образом захлопнул сам, и, кажется, ему пора одеться. Он налажал. И натворил хуйни. И ему с этим разбираться.
План с «уйти» превратился в план «забрать с собой». Даже если Сяо Чжань будет против.
— Ты в порядке?
Вместо ответа в Ван Ибо летят джинсы и белье с пола, а также футболка из корзины грязного белья.
Сяо Чжань не впал в ступор, не в истерике, не оглушен и даже не пытается спросить «какого хуя?». Ибо одевается, пальцы дрожат, но это адреналин. А еще азарт. Он не зря сегодня ходил на пристань.
— Нужно добраться до рюкзака. Там оружие и наличка. И нужно валить.
— Я так понимаю, твоя любовь мне тут жизнь сломала, да?
Сяо Чжань говорит это, резко открывая шкафчик за зеркалом. Берет одну из банок своих пилюль, смачно откручивает крышку, заглатывает сразу две, захлопывает зеркальную дверцу. Наклоняется к крану, запивая ледяной водой. Глоток. Еще один глухой хлопок, затем дребезг. Глоток. Чжань дергается, выпрямляется и вытирает рот тыльной стороной ладони. Спрашивает уже куда более взвинченно, усилие сохранить контроль видимо — Чжань сжимает края раковины до побелевших пальцев:
— Чего они хотят? Убить?
Ван Ибо качает головой и говорит тише: «Наделать шума. Если бы хотели убить, уже бы убили. Пугают. Показывают, что знают, где я и с кем. Сейчас уедут, полиция наверняка в пути. Это не для того, чтобы убрать меня, это предупреждение. Сегодня…мой брат вышел, это… связано. Они хотят его так выманить, чтобы пошел слух, что на меня охотятся. Я налажал. А может, никогда не был хорош. Просто раньше брат был в тюрьме и не было смысла…».
Чжань шепчет: «Вау, теперь мне намного спокойнее, Ван Ибо». Тот пожимает плечами. Пальцы Чжаня тоже мелко дрожат, когда он перестает сжимать раковину. Чжань смотрит на свое отражение. Зеркало только-только отошло от горячего и влажного воздуха, отражает действительность вокруг без тумана. Ибо подходит ближе. Обнимает со спины крепче. Чжань смотрит на него через зеркало и почему-то усмехается, затем говорит:
— Пообещай мне кое-что, влюбленный или любящий меня Ван Ибо.
— Все, что захочешь.
— Мы ведь не умрем, пока не переспим нормально, да?
Ван Ибо мягко кусает его в плечо, а затем целует в шею. Глухой хлопок. Дребезг. Визг шин.
Обнять крепче и прижать к себе еще сильнее.
— Да. Мы определенно не умрем, пока не переспим нормально, Сяо-гэ. И даже после этого не умрем. Я обещаю.
Следом за визгом шин слышится вой сирен, пока не так близко. Чжань кивает, Ибо уже открывает дверь и отдает команды так, словно привык это делать. Что собрать, во что одеться, что забрать, о чем забыть. Чжань думает, что надо позвонить родителям. Сказать, что на новый год он приехать не сможет. Завал на работе. Государственной важности. И его совсем не пугает то, как он легко принял весь этот пиздец. Наверное, потому что ждал его. С первой минуты, как стащил Ван Ибо с моста.
Он знал, что тот изменит его жизнь. Только вот не предполагал, что так сильно.
Примечания:
* «белый бумажный веер» — отвечает в триаде за воспитание и контрразведку, а также за общие вопросы и финансы.
* «желтый дракон» — лидер, ведает общим руководством и стратегией триады.
10. 信自己的运气
х х х
Х.
Есть пути, на которые лучше не вставать.
Раньше такие на картах отмечали: «Здесь живут драконы».
Теперь не отмечают.
Но это не значит, что драконов там нет.
— Фарго
Десять лет назад, северо-западный округ Пекина,
закрытый сектор «GSL»
Бревно обледенело. Влага, что скопилась во всех извивах и узорах коры, превратилась в лед, делая дерево не только более крепким, но и скользким. Словно продолговатый кусок копченой свинины, покрытый толстой коркой карамели из тростникового сахара.
Почему-то Ибо показалось, что сравнение с едой поможет ему, но это только сделало хуже.
Желудок заурчал, а пальцы отказывались гнуться от холода. Но он упорно разминал и растирал их, продолжая гипнотизировать бревно упертым взглядом.
У него к нему личные счеты.
Заусенец на безымянном пальце заныл при очередном нажатии, что подстегнуло Ибо браться за дело — вскарабкиваясь на выбитые в камне ступени, а затем влезая на проклятое бревно, концентрация достигала такого предела, что о любой боли, холоде и нытье желудка сразу же забывалось.
Ван Ибо преодолел ступеньки.
Его крепко зашнурованные кеды встали на край бревна. Ему нужно было дойти до другого конца и не упасть. Всего лишь. Сохранить равновесие, довериться телу и морозному воздуху. Быть достаточно расслабленным и вместе с тем — твердо чувствовать стопами поверхность. Он уже делал это. Множество раз до того, как сломал ногу. Он делал это, даже когда бронхит заплевал его легкие мокротой, а в голове кружились белые мушки высокой температуры.
Ну и разозлился же тогда Старший брат, но он сделал это.
Почему не может сейчас?
Дело не в обледенении. Дело в предвкушении боли. Такой острой, что слепнешь.
Боли, что лишь привела к новой — перелом был сложным. Кости начали срастаться неправильно.
Пришлось ломать дополнительно.
Госпожа Ма запретила делать это под наркозом.
Госпожа Ма сказала, что он должен усвоить урок самонадеянности.
Госпожа Ма добавила, что она, самонадеянность, его когда-то погубит.
Госпожа Ма никогда не была довольна тем, что Хань Фэй выбрал в драконы его.
Ван Ибо не знает, почему.
Он упорно старался пользоваться костылем и табуретом как можно реже уже со второй недели. Такой вид ограничения свободы казался Ибо самым жестоким. Особенно по той причине, что его источником послужила собственная глупость. Самонадеянность или нет, Ван Ибо знал, что тренироваться ему необходимо больше остальных.
Быть упорнее остальных. И более жестоким к себе. Хоть лучше был бы жестким.
Можно подумать, что дело в статусе, но нет. Ибо просто сам знал — судьба его тело выносливостью не одарила. Ее приходится воспитывать в себе самому.
Он всегда был самым хилым среди остальных, маленьким в росте и весе. Любая зараза липла к нему до обидного легко, особенно если касалась легких или горла.
Однажды его это чуть не убило.
Именно это «чуть» и подарило Ибо ту самую самонадеянность. Ему почему-то показалось, что смерть любит его и потому придет за ним очень и очень поздно. Как за самым сокровенным и до сладости перезрелым плодом.
Возможно, виной тому сказки Старшего брата на ночь, а может, Ван Ибо просто сам себя так успокоил. Главное, что он не умер. Даже когда слышал шепотки — мальчишки рядом с кроватью уже делили его имущество, — он лишь упорно продолжал дышать и откашливаться от души, смиренно лежа животом на постели.
Доктор сказал, что в такой позе его легким будет легче. А мальчишки все продолжали.
Смерть не была среди них такой уж редкостью, особенно в холода.
Этот разговор был обыденным.
Кому достанется йо-йо, а кому — набор лего, подаренный Ибо от кого-то из красных посохов члены триады ответственные за силовые операции, операции по охране, etc.. Книжки о пиратах и комиксы о человеке-пауке.
Кислотно-зеленый фонарик с кислотно-желтым брелком.
Место подле господина Ханя. Право быть его воспитанником. Следующим драконом.
Злость на самого себя, на пацанов вокруг, на свою глупость, уплотнялась залежами угля в недрах сознания, чтобы сначала медленно тлеть, а затем разгораться с каждым днем все ярче.
С тех пор этот огонь не гас. Ни при новых болезнях, от которых Ибо лишь отмахивался, ни при очередных наказаниях от госпожи Ма за не такой взгляд, не такой вид, и незнание значения слова «пакгауз» или за отсутствие ответа на: «Каков порядок расположения посуды на столе, если ты хочешь предъявить неуважение к сотрапезнику и назначить время дополнительной встречи, допустим, в шесть часов вечера нечетного месяца?».
Ван Ибо впитывал всю доступную информацию, словно губка, понимая, что от этого зависит то, какой будет его жизнь. Но знать то, о чем он не мог ни читать, ни слышать, ни видеть, было заданием сложным.
Даже его хваленая логика не могла помочь — ей было просто не с чем работать.
Но бревно. Бревно — не тот случай. Это бревно было символом его неудачи и боли.
Лежа в постели, он представлял множество раз, как заберется на него впервые после случившегося. Как пройдется по нему с гордо поднятой головой.
В первый же день, когда сможет сделать пять шагов без костыля или табуретки.
Этот день настал. Раннее утро. Ледяной воздух. Облепленные снежным пухом ветви деревьев и пригнутые все той же тяжестью кустарники. Ни души вокруг.
Дыхание поднимается паром. Ван Ибо расставляет руки ради баланса. Его колотит так, словно перед ним не треклятое бревно, а как минимум пасть морского чудища. Ноги вовсе не чувствуют никакой твердости. Что-то в его голове твердит, что он упадет.
Затея глупая. Все бревно — в корке льда. Он просто упадет и снова сломает ногу.
А может — шею. Чтобы уж наверняка.
— Ты принял решение упасть, Ванцзе?
Голос Хань Фэя ни с чем не спутать. Его говор всегда тихий и низкий, когда он обращается к нему.
В такие моменты Ибо кажется, что сначала голос наставника появляется откуда-то изнутри и только потом оформляется в реальности — его фигурой. У господина Ханя уставший вид, но глаза смотрят насмешливо. Только по ним и можно понять оттенок хоть какой-то эмоции. Хань Фэй накинул поверх тяжелое пальто с опушкой черного меха, и не думал его застегивать. В отличие от своего преемника, господин Хань мог похвастаться крепким здоровьем. Взять только прошлую весну: в Доме все полегли с каким-то гриппом, и даже госпоже Ма вызвали врача из британского посольства, со всеми этими склянками и новомодными таблетками, а Хань Фэя не тронул даже насморк.
Ван Ибо опускает руки, но не сходит с края. Фэй ступает по свежему снегу, идет вдоль следов Ибо. Те кажутся до смешного маленькими в сравнении. С какой-то странной тоской Ибо следит за этим, и поднимает взгляд на наставника только когда тот оказывается совсем близко. Хань Фэй прячет руки в карманы пальто. Мелкий снег оседает хлебной крошкой по меху.
— Я задал вопрос, Ванцзе. Ты принял решение упасть?
Ибо отворачивается, смотря в другой конец бревна. Он знает, что то появилось, когда ему было около трех лет. Господин Хань рассказывал об этом. Раньше это бревно было крепким, зрелым дубом. Но не настолько, чтобы пережить стихию. Ветер сломил его, а сам он проломал крышу сарая с инвентарем для садов. С тех пор из него сделали множество разных тренировочных приспособлений. Обновляли каждый год, заливая эпоксидной смолой, укрепляя и не давая гнить. Основная цель конкретно этого куска дуба вовсе не унылая ходьба туда-сюда, а борьба — мальчишки постарше вставали на него с тех самых краев и не давали друг другу добраться до середины, которую учитель Вэй обычно отмечал с помощью алой ленты. Тот перевязывал бревно ровно посередине и нарочно долго возился с «веселым бантиком», пока мальчишки топтались вокруг в нетерпении, и все спорили, кто же пойдет на спарринг первым и с кем.
Но пока ты не научился ходить по нему в одиночку, о таком и мечтать нельзя.
Холодно. Ван Ибо снова стал ощущать, как замерзли руки и ноги, как ветер едко льет холод за шиворот полушубка. Который он и не думал застегивать.
Желудок урчит так, что аж слышно. Ван Ибо было бы стыдно, если бы на это хватило сил — он расстроен. Потому что господин Хань прав. Остается только вытереть тыльной стороной ладони под носом и отвернуться, молча кивнув.
Хань Фэй стягивает его с бревна, словно маленького. Взяв подмышки. Это унизительно настолько, что Ибо почти раздавлен. «Почти» — потому что это все-таки Хань Фэй.
Человек, которого Ибо хотел называть отцом и считает таковым.
Другого у него нет и не будет. Так что унизительный стыд странным образом смешивается с чувством безопасности. Плохое не может случиться, если наставник рядом.
— Пойдем. Я готовил завтрак. Поможешь мне с мясом. Вернешься сюда только тогда, когда примешь решение не падать. До этого — даже не подходи к этому бревну. Ты гарантированно сломаешь себе что-то снова.
Ван Ибо нечего возразить. Он идет рядом, чувствуя себя еще меньше, чем есть на самом деле. Господин Хань замедляет шаг, чтобы мальчишке не приходилось спешить. Ибо ловит себя на совершенно детском желании — идти не рядом с наставником, а за ним, чтобы вставать в его следы на снегу, не оставляя собственных. Но это же глупо. Ван Ибо сует окоченевшие руки в карманы полушубка. В них же спрятаны и перчатки, которые Ибо надевать не любит. Даже если от холода больно. Мысль закрадывается и вытесняет собой глупость желания.
Ибо прочищает горло, в глотке словно снова собралась мокрота, и спрашивает:
— В тот раз я не принимал решения падать. Я был уверен, что не упаду. Принял такое решение, разве не так? Так почему я все-таки упал?
Хань Фэй опускает на него взгляд, затем — опускает и ладонь на его голову. Ерошит с ощутимой силой, Ибо автоматически пытается увернуться, но не выходит — Хань Фэй в последний момент притягивает его за плечо поближе. Под слоем снега есть лед — тропа вымощена камнем.
Надо идти осторожнее.
— Ты упал, потому что был слишком уверен, что не упадешь. Ты не принимал решение. Ты просто посчитал, что настолько хорош, что справишься. Это — другое. Подумай над этим.
Ван Ибо кивает. Дом уже начал вырисовываться. Говорили, что это бывший храм в котором когда-то жили основатели первой триады. Те самые монахи. Вопреки той легенде, что и так все знают, находился этот храм далеко от долины. Может и правда все было так, а может и нет.
Ибо нравится, как выглядит снег на изогнутых крышах, какими насыщенно красными кажутся округлые столбы, хоть летом они теряются в зелени вокруг.
Ибо честно думает над словами наставника. Крутит в голове, кажется, что даже слово в слово.
Все равно не видит разницы. Но это пока что. Он обязательно ее найдет.
И тогда больше никогда не будет падать.
Сейчас,
деревня Цито района Цзяньцзян города Чунцин
Китай полон извилистых дорог, которые ни к чему не ведут. Он коллекционирует асфальтные ленты, центрифуги развязок, прорывает борозды для новых путей, поднимает к небу бесчисленные мосты поверх других мостов. Часть из них построена ради самих себя, другая — не оправдала надежд. Конкретно эта дорога должна была вести людей к заброшенным землям, которые годились для обработки. Жителям деревни вроде как позволили ее использовать, просто добраться до нее не было никакой возможности.
Так что вдоль скал, появилась она — «зерновая дорога».
Узкая, прижатая к шершавым бокам каменных глыб. Красная хонда робко движется по ней, преследуя свет собственных фар. Не считая звезд — это единственный источник света на многие мили вокруг. Эту часть пути Сяо Чжань доверил Ван Ибо.
И до сих пор не задал ни одного уточняющего вопроса.
Смущало ли это самого Ибо? Немного. Он был занят бесконечным прокручиванием вариаций того, как объяснить свою жизнь так, чтобы не испугать, не потерять, не оттолкнуть, и, что совсем роскошь — убедить в ней быть. По всем логическим выкладкам выходило, что шансы на это не очень большие. Но все-таки ведь есть. Сяо Чжань сейчас сидит рядом, на пассажирском сиденье. Смотрит в густую темноту перед собой, поглаживает то у виска, то ближе к носу кончиками пальцев. Порой трет ими же губы. Зевает и совершенно точно не выглядит так, словно хочет сбежать.
Но должен ведь? Чисто по соображениям инстинкта самосохранения.
— В этой деревне я немного пожил, прежде чем пробраться ближе к центру… ничего толком не делал, так, снял койко-место, немного попробовал местной еды… там был такой странный суп, гадкий на вид, но вкусный…со шпинатом. Ты ел такой? Шпинат, тофу кажется…и рыба.
Это нелепое чувство, когда пытаешься говорить обыденные вещи в не самой обыденной ситуации. Ибо коротко смотрит на Чжаня. Тот даже руль отдал ему без боя, хоть все предыдущие разы, когда Ибо заикался о том, что хотел бы повести («Может, хотя бы дай мне на парковку заехать? Гэ, я правда умею!»), Сяо Чжань делал страшные глаза и молча смотрел как на идиота.
Сейчас его глаза были уставшими, и на Ибо он не смотрел.
Промычав что-то согласное, Чжань зевает снова, затем для чего-то трет окно кулаком и смотрит во тьму. Казалось, его совсем не заботит ни то, что его выдернули из прежней жизни, где остались разбитые окна и по сути открытая квартира, ни то, что все планы на будущее (тот же чжунцзе с семьей) накрылись медным тазом.
Так ведь, кажется?
Ибо предпринимает еще одну попытку, зайдя с другого бока:
— Ты… те таблетки, что ты выпил в ванной, это было что?
Сяо Чжань издает какой-то странный звук. Ибо смотрит — это был смешок, судя по улыбке. Чжань складывает руки на груди, но при этом откидывается головой о кресло. Веки полуопущены, выглядит это как ленивый прищур сытого кота. Чжань выдает:
— Успокоительное, конечно. У меня этого добра много. Осталось.
К Ибо подбирается непрошеная догадка и он все-таки уточняет, смотря снова на дорогу — та слишком коварная, даже для него.
— Осталось… твое или его?
Это было бы фырчанием, если бы звучало короче. Чжань снова зевает, прикрыв рот. Затем бурчит:
— Мое. Но из-за него и после него. Не пил уже… года два. А в тот момент так сразу подумал… «Если не выпью, то не вывезу». М-м. Не помнил о них, но и не убирал. Хорошо, что взял… кстати индийские, ага. Нормальных у нас не найти…
— Успокоительного? Не найти?
— М-м… таких — нет. Хочу теперь шпинат. Найдешь мне тот шпинат?
Ибо теряется на секунду, затем вспоминает, что сам говорил про суп. Убедительное мычание устраивает Сяо Чжаня. Тот мычит в ответ, словно дразня, а затем все-таки засыпает.
Хонда продолжает свой крайне осторожный путь, въезжая в ущелье. Там тьма сгущается еще больше, особенно когда не можешь вскинуть голову ради атласа звезд.
Можно надеяться только на фары и движение вперед.
Ибо думает, что когда действие «успокоительного» закончится, так тихо больше не будет. Или черт его знает. Но моментом надо насладиться. Особенно тем, как оказывается господин Сяо может тихо сопеть и тереться щекой о спинку кресла, в попытке сползти пониже всем своим длиннющим телом.
То нежное чувство, что возникает при виде этой нелепости, Ибо идентифицирует уже спокойно.
И для этого ему даже не нужны таблетки.
х х х
Беглецов Сюэсун узнает сразу. Не важно, от чего именно те бегут, будь то долги, чувство вины или страха, а может — другие люди, но общее у них всегда есть. Она называет это «бездомный взгляд», но еще никогда не видела человека гордого его иметь. О его спутнике говорить особо не приходится, тот слишком сонный и какой-то рассеянный. Возможно, первый обдолбал второго для чего-то, а может, тот сам по себе такой. Не ее дело. У нее чай стынет, дел еще много, хоть и время позднее.
— На сколько ночей?
Решать явно должен был бы тот, рассеянный. У него вид такой, да и старше. Но почему-то именно этот юнец, в растянутом худи с каким-то английским словом во всю грудь, отсчитывает перед Сюэсун купюры, да еще так, чтобы она видела — дают ей малую часть от того, что имеют.
— Четыре ночи. Пересчитайте.
Юнец кивает на деньги, в следующую секунду теряя к ним интерес — оборачивается на мужчину. Тот стоит перед стендом с статуэтками денежных божков и фоторамок, в которые Сюэсун любовно вклеивала успехи своего сына.
Успехи в фотошопе.
Вот она стоит под ручку с Брэдом Питтом. Вот на фоне их семейного отельчика другая успешная семья — Кардашьян. А вот — ее муж рядом с самим председателем Китайской Народной Республики. На рыбалке.
Мужчина закладывает руки за спину и наклоняется к одной из «настоящих» фотографий. Судя по рамке, это та, где Сюэсун всего тридцать, она в новом платье, подаренном мужем на пятую годовщину их отношений (красная ткань плотно натянута поверх выдающегося живота — сынок разбарабанил Сюэсун изнутри до абсрудного), а на фоне — центр Поднебесной.
Запретный город. Беломраморное море с желтой черепицей благородно красных зданий.
Собственно, так они отель и назвали, с той лишь разницей, что слово город изменили на слово «отель». Такая вот отсылочка, которую не каждый может понять. Она ею гордится.
Сюэсун стягивает деньги со стойки, пересчитывает, обслюнявив палец.
Купюр на пять штук больше, чем надо, она уточняет, пересчитывая опять:
— Это вы хотите с включенным завтраком и стиркой, да?
Ее новый постоялец все еще смотрит на своего спутника. Тот уже тыкает денежного божка в натертое на удачу брюшко. Постоялец мычит в согласии, Сюэсун убирает деньги в выдвижной ящик и тянет по столу книгу учета, раскрывая ее на нужной странице.
— Впишите свои номера, имена и место регистрации.
Постоялец наконец-то смотрит на нее. На его губах появляется легкая улыбка, но вместо того, чтобы взять ручку и прописать то, что сказано, он снова достает пачку денег. Отсчитывает еще три купюры, только номиналом больше.
— Придумайте нам их сами.
Сюэсун не думает и минуты, это обычное дело для ее отеля. Она же говорит — беглецы.
Лучшие клиенты.
Сюэсун кивает и отвечает на улыбку ее усталой копией. Вручив ключи, хозяйка провожает взглядом этих двоих. Всего по рюкзаку на каждого, и еще одна кожаная сумка в руках. Тот, что старше и уставший, сжимает плечо младшего, когда они начинают подниматься по ступенькам.
Им нужно преодолеть три лестничных пролета и дойти аж до конца коридора.
Сюэсун думает, что назовет старшего Лю Ди, а младшего У Фа. На большее фантазии ее не хватает.
Телевизор в комнатке за ресепшеном продолжает бубнеть, обещая рост экономики и цветущую весну для всей страны. Сюэсун в это не особо верится, но что она может понимать?
Только то, что зима пока что вовсе не закончилась.
Шанхай
При коммунизме у триады было мало путей. Один из них вел в Гонконг, другой — как можно дальше на запад, а третий именовался сном. Секретные общества распускались, люди оседали и выжидали лучших времен, которые наступали всегда, а некоторые — становились уважаемыми партийными семьями. Успешно продолжающими свой род и поныне.
Никогда в истории триада, что именовалась лишь одним словом, не имела единого центра управления. Кланы не объединялись, группировки не сливались воедино, даже ради выгоды. Минутные содружества возникали и тут же гасли, стоило добиться цели. Часто — не очень большой.
То, что раньше имело всего один исток, стало не развесистым деревом. Скорее грибницей. Споры оседали по всей стране с момента послабления железной хватки Мао, и грибы, вернее даже трюфели, проростали в корневища всех систем, забирая себе то, что было отобрано, и раздавая тем, кто нуждался в этом больше. В конце концов, триада возникла изначально для этого. Для людей. Так гласила легенда, конечно. Маркетинговый миф. Но люди, тем не менее, всегда бежали именно к ним, а не к официальной власти. В поисках справедливости, что ни одна власть не могла им дать.
Кроме этой. Рукотворной.
Выстроить организацию триады так, чтобы она слилась воедино, задача трудная. Кроме того, ранее невостребованная. Отделить мусор мелких банд, очистить имена кланов, подмять под себя такие бизнесы, как полупроводники и чипы, а не только разные «гомеопатические травки», вместе с азартным бизнесом, перегонкой техники, элитных автомобилей и остальной прибыльной грязью. Пояснить выгоды и наладить систему.
Потому что им страшно. Потому что они отстали. Потому что официальная власть наглеет больше прежнего, словно времена Мао возвращаются, только в извращенной и еще более подлой форме.
А люди давят. Давят, как никогда. Люди требуют защиты. Либо бунта.
Хань Фэй пытается найти ответ на вопрос — почему это должно быть делом его жизни?
Адвокат Ли ставит перед ним тарелку, полную тарталеток. При этом сам он уже жует одну из них, пялясь в экран планшета, лежащего на столе. Им выезжать через двадцать минут.
Впервые в истории триада действительно собирается вместе.
В одном отеле. В одном конференц-зале. В одной точке.
Впору бы нервничать, но Хенг перед ним спокойнее сытого удава.
— Ты знал…что эти пироженки вовсе не наше изобретение, а? Я шокирован. Ешь, еще теплые, я люблю подогревать их… м-м.
Хенг проговаривает это на кантонском, тот льется из него естественнее. Наконец-то садится за стол, жует и все листает какой-то отчет в планшете. На Хенге только дурацкий тонкий халат. Хань Фэй мысленно отмечает, что видит адвоката Ли чаще в таком виде, чем в нормальной одежде. Кажется, это его органичное существование, и он не считает, что наличие гостя в доме должно что-то менять. Справедливо, наверное.
И стопроцентно — коварно.
Сам Хань Фэй уже давно в костюме и приятном онемении от дозы обезболивающего. Каким бы стоиком по отношению к боли он ни был, это глупо, не пользоваться благами фармацевтики, если в терпении нет практического смысла. К тому же, так совесть адвоката Ли перестает истерить. Та, конечно, не интенсивна и прослеживается только если понимать, куда смотреть, но все равно раздражает.
— Я надеюсь, ты так внимательно читаешь отчет по Ванцзе? Что нового?
Хенг дожевывает тарталетку и тут же тянется за следующей, пихая в рот сразу половину. Вряд ли для того, чтобы выиграть себе время, жует тот весьма резво. Проглотив (за что спасибо), Хенг наконец-то поднимает голову и чуть ведет плечом:
— Некая банда «серых голов» взяла его след в Чунцине. Припугнули, судя по всему. Его лицо удалось оцифровать и перехватить, так что скоро будут точные координаты. Я вышлю ребят Ченга и…
— Ты должен как-то предупредить его, а не делать так, как было со мной.
Хенг отвечает на это улыбочкой и тихим шипением «я намекал» и «тебе же передавали сообщение». Взгляд Хань Фэя неизменно говорит, что нет. Не передавали. И это прокол Ли Хенга. Потому что тот был обязан проследить. Адвокат не скрывает вздоха и не придумывает ничего лучше, кроме как заметить:
— У тебя галстук как-то криво завязан.
Хань Фэй чуть вскидывает голову, мол, да что ты такое говоришь, и предлагает:
— Так завяжи мне его нормально.
Положа руку на сердце, Хань Фэй не знает, зачем делает это. Его просто глубоко забавляет то, как этот Ли Хенг позволяет себе то вестись, то нет на подобные провокации. Сейчас первый случай. Потому что Хенг встает, отряхивает руки и действительно встает перед Фэем, короткими и резкими движениями распутывая виндзорский узел.
— Есть еще одна маленькая деталь. Ну. Как маленькая. Судя по всему Ванцзе не один.
Хань Фэй хмурится. Его несколько отвлекает такая близость. Хенг пахнет какими-то цветами и гранатовым соком. Его пальцы ловко справляются с удавкой, теперь темно-синяя ткань каким-то образом завернута в узел дважды.
— Как заложник или как?
— Или как. Он сбежал вместе с хозяином квартиры, где жил, как я понимаю. Архитектор.
— Ты пробил его?
Хенг чему-то усмехается и кивает еще раз. Поглаживает шелк кончиками пальцев, что не имеет никакого смысла, кроме приятного ощущения. Для него. Отойдя на шаг, Хенг кивает сам себе, говоря под нос: «Вот теперь это выглядит хорошо». Хань Фэю плевать на галстук.
— Так кто он? Архитектор? Это какое-то кодовое название?
Хенг качает головой, затем подтягивает планшет по столу и разворачивает перед Хань Фэем, перещелкивая вкладки. Тот смотрит на фотографию довольно симпатичного мужчины.
Затем на перечень деятельности и заслуг. Хенг тем временем стягивает резинку с волос, распускает их и прочесывает пальцами, уходя с кухни в сторону спальни. Добавляет, обернувшись на момент:
— Единственная смутная связь, которую я нашел, так это то, что ты сидел в тюрьме, которую спроектировал его дед. Но это скорее ироничное совпадение. Я пошел одеваться.
Хань Фэй ничего не отвечает. Он листает статьи об этом Сяо Чжане, переходит к фото, затем снова возвращается к сухим абзацам. Где родился, на кого и где учился, сколько, где и каких зданий построил. Архитектор. Которого Ванцзе забрал с собой.
Проблема или нет? Ну, первое всегда можно превратить в выгоду, если знать как. Хань Фэй откидывается на спинку стула. Смотрит на полутьму коридора. Из спальни Хенга смутно доносится припев какой-то попсовой песни. Адвокат подпевает ей, пока не заглушает все звуки разом гудением фена. Хань Фэй ловит себя на мысли, что это очень домашние звуки.
Которые почему-то ему нравятся.
Машина приезжает ровно в срок, но водителю приходится ждать еще сорок минут.
Потому что Хань Фэй заходит в спальню адвоката Ли.
И не делает ничего больше, кроме как наблюдает. С его молчаливого разрешения.
Ли Хенгу действительно лучше без какой-либо одежды. Но Хань Фэй разберется с этим позже.
11. 流星雨
х х х
ХI.
«скорбь моя подобна солнцу в холодной воде»
Поль Элюар
Шанхай
Архитектурная игла небоскреба пронзала тяжелые тучи. Ее конец утопал во тьме, лишь где-то там виднелось блеклое зарево — свет старался просочиться сквозь мглу, охраняемый толстым стеклом окон.
Хенг выходит из машины и вскидывает голову. Успевает ухватить взглядом неоновый свет рекламы поверх здания, — дракон полз по строгой разметке стекла с железом и бетоном, туда, к самой верхушке, словно монстр из дешевых веб-боевиков, — пока зонт не закрывает ему обзор.
Сервис в Hyatt on the Bund всегда выше всех похвал.
Хань Фэй преодолевает расстояние ко входу быстрее, чем метрдотель успевает прикрыть его от грузных капель зимнего дождя. Тот не смог стать снегом в этот день, как ни старался. На ходу расстегнув пуговицу пиджака и не оборачиваясь, не смотря никуда, кроме как перед собой, Фэй шел стремительно, но четко. Словно дело не в спешке, а в его личном ритме.
Ну и… длинных ногах, очевидно.
Хенг идет за ним на почтительном расстоянии. Кивает в ответ на многочисленные поклоны, останавливается у ресепшена. Людей в фойе не так уж много. Час поздний.
Хань Фэй в сопровождении охраны уже заходит в лифт. Его отрешенность казалась крайне непробиваемой с той секунды, как они сели в мерседес. Новый уровень. Оказалось, этот титановый панцирь может обрести еще один слой брони.
Хенг про себя назвал это «сменой режима». От уголовника с грязным прошлым, до собутыльника по финской водке, а теперь… на своем месте.
Ма, у меня почти вышло, осталось немного, видишь?
Хенг льет кантонским:
— Все под контролем? Что по угощению?
Хенг расслабляется совсем немного. Позволяет себе опереться о стойку ресепшена, пока листает выданный планшет — там главный администратор отмечал исполненные пункты, если нажать на название — откроется фото-подтвреждение или видео.
«Все исполнено в соответствии с вашими указаниями, господин Ли. Предусмотрены планы B и С. На третьей странице вы можете увидеть то, как выглядит сервировка на данный момент, можем изменить что угодно, если это необходимо, только скажите».
Хенг листает все это практически бездумно, согласно мычит пару раз. Он уверен в компетентности здешних сотрудников, но все равно надо бы сосредоточиться.
Проблема в том, что часть Хенга все еще находится в спальне.
Ничего не произошло. Хоть могло, по идее? Именно это и было особенным.
Такого острого чувства волнения, такой желанной лихорадки, Хенг не испытывал очень давно. Если вообще испытывал. Не говоря уже и об обратной стороне медали.
Хань Фэй смотрел. Смотрел, как Хенг расчесывает волосы у зеркала, скинув с себя халат. Обманчиво легкими движениями заплетает косу на один бок. Затем переходит к выбору белья. Оставалось надеяться, что господин Хань не подмечал легкой дрожи пальцев, подпирая стену у дверного проема.
Хенг не делал ничего такого. Разве в процессе одевания может быть что-то эротичное?
Но казалось, что все, что он делает, имеет такой подтекст. В конце концов, он даже не женщина, чтобы возмутиться, так ведь? И чему возмущаться, если ему… нравится.
Он клянется, что не замедлял свои движения специально. Не пытался прогибаться в пояснице, и он всегда, всегда наносит духи на голое тело, а не на одежду. Ничего, что не было бы обычным, ничего, что могло бы быть каким-то иным ради следящих за ним глаз.
Носки, кожаные ремешки «подтяжек» для них, чтобы не сползали под брюками. Хенг фиксировал те на середине икр. Затем — аккуратные ножны.
К этим же ремешкам прикреплен тончайший складной нож, очень острая и удобная штучка.
Только потом — брюки. Медленно застегнуть на них все мелкие пуговки, чуть стянуть пониже, повернуться так, чтобы подметить задницу в отражении. Сунуть узкие ладони в карманы, проверить вшитую в ткань капсулу на всяйкий пожарный. Плавно выдохнуть.
Не сметь оглядываться и не пытаться поймать взгляд в зеркале.
Далее — рубашка. Хенг не фанат нательного белья под нее. Ему нравится чувствовать ткань. Кобура с такими же кожаными креплениями, протянуть портупеей, схематично и крепко, чтобы тяжесть кольта была в надежной хватке. Поверх черной рубашки — безделушки, конечно же золотые безделушки. Он долго не мог застегнуть последнюю из них. Пальцы дрожат.
Обычно все быстрее и проще.
Закрываешь глаза, нащупываешь, защелкиваешь.
Пальцы Хань Фэя оказались обжигающими, когда он коснулся его шеи. Аккуратно выцепил цепочку, чтобы застегнуть ее. Хенг не знает, почему замер. И не знает, почему его так прошило жаром, когда господин Хань коротко заметил: «Распустите волосы, адвокат Ли».
Это все, что он сказал, прежде чем выйти и не закрыть за собой дверь.
Хенг сжевал щеку, еле поборол в себе желание растереть лицо, вместо этого потирая уши.
Выждал пару секунд, вглядываясь в свое отражения. Тонкие ноздри раздувались в попытке втянуть побольше воздуха, губы приоткрыты для медленного выдоха.
Хенг запомнил легкое розе по шее, едва заметное покраснение ближе к скулам.
Это очень плохо.
Хенг расстегнул фамильную заколку-кольцо, и ее щелчок показался ему насмешливым.
Стянул резинку с волос.
И сейчас стоял с волнистым медным каскадом, который все лез в глаза.
Адвокат Ли убирает прядь за ухо, постукивая стилусом рядом с планшетом.
Семь из девяти семей на месте. Семья Фа застряла в пробке. Черный рынок предметов искусства, реплики, ювелирные изделия. Неудивительно, наверняка их же кортеж и виновник застоя в траффике. Семья Тао уже на вертолетной площадке отеля. Перепродажа недвижимости (Гонконг, Сингапур, Макао, Лондон), предоставление площадей для выращивания специфических растительных культур (депрессивные сельские районы КНР), «охранные услуги» (широко спектра).
Семья Цай… кибербезопасность, новые технологии, курирование программ завязанных на искуственном интеллекте, крепкая связка с правительственным аппаратом и все производное.
— Ну что, подлез в брюхо самого дракона или в его штаны?
Как бы высоко ни забрался Хенг и что бы ни делал, он — не часть высшей семьи.
Он бастард госпожи Ма, а после этого идет длинный список нелестных эпитетов. Это ничто не смоет. И отношение всегда было и будет именно таким. Ни «добрый вечер», ни «господин Ли» или «адвокат Ли», на худой конец — «Белый веер семьи Хань».
Хенг хмыкает под нос, удивленный собственному эхо разочарования.
Он разве вообще допускал мысль, что что-то поменяется?
Хенг оставляет стилус и оборачивается, тут же переходя в поклон «средней глубины». Глава семьи Цай прислал своего отпрыска со свитой. Какое неуважение и какой грубый подтекст. Либо же… слухи правдивы. Глава семьи должен скоро отправиться к предкам, и чисто физически не смог бы выдержать такое путешествие.
— Господин Цай. Надеюсь, ваш отец находится в добром здравии.
— Не твое дело, где он находится. Тот прав, ты и правда выглядишь как уродец. Ни баба, ни мужик. Такое только старая карга и могла выродить.
А малец перегибает, хоть и звучит так, словно оскорбления заучивал по бумажке.
Хенг снова чуть склоняет голову. Этот цирк только начинается, высшие семьи всегда любят излишнюю драму… традиции и пустословие. А еще — вкусно пожрать, конечно же. Господин Цай Шень мало изменился, если судить по фотографиям двухгодичной давности. Такой же долговязый, нелепый, унаследовавший от своего отца крупный лоб, а от матери — широкий нос. На относительно маленьком лице это выглядело практически патологией, но ею не являлось. Вроде бы. Хенг сомневался. Все-таки грубость младшего Цаев иногда выходила за все мыслимые пределы.
Или это просто фишка нового поколения? Кто знает.
Цай продолжает требовательным тоном:
— Ты проведешь нас или чего стоишь?
Хенг сдерживается ровно настолько, чтобы посмотреть на Цая младшего и вскинуть бровь. Один из сотрудников оказывается рядом секунду спустя и просит с улыбкой пройти «дорогих гостей» за ним. Хенг провожает господина Цая и семенящих за ним шестерок охраны взглядом, делая пометку: при любой возможности, фигурально или метафорично, но выкрутить этой малявке яйца.
Интересно, если намекнуть господину Ханю… это будет считаться «злоупотреблением должностными обязанностями»? Мысль от чего-то веселит и к планшету Хенг возвращается уже с легкой улыбкой. Занятный ждет их вечерок.
Главы того, что раньше можно было назвать триадой, почти что собрались.
Дождь в Шанхае постепенно становится более ледяным и колким.
х х х
До выстрела сорок три минуты и двадцать семь секунд.
Хань Фэй не просил, но чай перед ним стоит. Судя по аромату — его любимый пуэр «тигровый бальзам». Вкус древесный и немного сладкий, выдерживает около десятка проливов без потери своих качеств. Фэй коротко оборачивается на адвоката Ли, который едва заметно ведет плечом. Откуда он узнал об этом, не такая уж загадка. Возможно, Ма упоминала это. Прямо или косвенно. Этот Хенг наверняка выпотрошил и ее личные дневники сразу после смерти, не считая оставленных инструкций и писем. Понять бы еще, в чем его мотивация. Всякая лапша про сыновний долг и прочая хрень Хань Фэем не воспринималась. Для такого рвения и методичного перемалывания всех испытаний и камней преткновений, нужна глубоко личная мотивация. Уж он-то знает.
Хань Фэй занимает кресло у экранов. Временит с тем, чтобы тянуться к чаю. В полумраке охранного пульта над пузатой кружкой взвивается столбец пара.
— Все места заняты, значит, все на месте?
Хенг подходит ближе, встает рядом. Его ладонь на середине спинке кресла, глаза прослеживают путь от самого левого экрана до правого.
— Да, господин Хань, все на местах.
Хань Фэй думает сказать, что наедине не обязательно продолжать все вот это вот с господами и титулами, но кажется, что адвокату Ли так легче. Пусть.
Играет в свою игрушку, главное, что по его правилам.
Фэй берет чай, вдыхает поглубже знакомый аромат. Это сразу же вызывает ассоциации и воспоминания, но сейчас не до этого. Хань Фэй делает один, средний глоток. Горячая тяжесть маслянисто-сладкого вкуса оседает на языке. Фэй прикрывает глаза всего на секунду, ставит кружку обратно на стол. Его голос звучит чуть мягче, чем до этого:
— Скажи им начинать есть.
Ли Хенг говорит «хорошо» вместе с кратким кивком. Рация у его губ. Он четко выговаривает: «выносите угощения, пусть приступают к трапезе, скажите, что господин Хань настаивает, сам он будет в течении двадцати минут».
Хань Фэй снова пьет, в этот раз не закрывая глаз, а внимательно наблюдая за главами высших семей триады. Отмечает тех, кто с радостью взялся за еду, тех, кто медлит с этим, тех, кто знаком указывает, что трапезничать должны начать их шестерки и сотрудники, тех, кто продолжает сидеть с ровной спиной и игнорировать тарелки перед собой.
Центральная круглая ось вертится, предлагая все блюда и напитки, которые, Хань Фэй точно знает, являются любимыми для каждого из глав.
Жареная фунчоза с фаршем, баклажаны со сладким перцем и картошкой «три земные свежести», бесконечные вариации шашлыков, блюда из утки и курицы, баранины и свинины, несколько видов особой лапши, мраморные яйца, чайные яйца, столетние яйца, уличные ютяо в соевом молоке, фрукты в карамели… все это в безумном сочетании с проявлениями итальянских паст, французских вин, бургеров и милкшейков.
— Глава Ханьси все-таки не сдержался, смотрите. Набрал уйгурских лепешек и вкладывает уже в них мясо и овощи… Его лицо и внимательное наблюдение за окружающими стоило комедийного шоу.
Хань Фэй обращает внимание на указанного главу. Круглолицый, и, кажется, самый мелкий из присутствующих. Его семья веками занималась нелегальными перевозками средних значений. Товары — подделки косметологических средств, масс-маркет, дешевые реплики брендов. Маршрут: Пакистан — Индия — Китай. Знает свое место, но голову не теряет. Ступает осторожно.
— Он прибыл с…?
— Сын, слева от него. Восемнадцать лет. Ханьси Чуньсы. Пьет морс из чернослива. На тарелке уже его любимые гулаб джамун. Сладкие шарики из сухого молока с мукой в сахарном сиропе. Наверняка попробовал в Индии, господин Ханьси стал таскать его с собой на деловые встречи лет с девяти… Глава Ханьси известен тем, что не высовывается и лично проводит все сделки, не доверяет вторым лицам даже своей семьи. Ничего сверх криминального. От торговлей чем-то более серьезным и от перевозки детей систематически отказывается, вопреки большому кушу. Охрану они оставили на паркинге. Не уверен, в чем смысл этого жеста, они единственные, кто не протащили за собой вооруженную охрану, как и было оговорено. Хоть, это его обычная тактика — старательно играть по правилам до последнего, даже если остальным на них плевать.
Хань Фэй медленно кивает. Это значит, что Ли Хенгу надо сделать пометку и скорее всего занести семью Ханьси в белый список.
Фэй переводит взгляд на экран, который демонстрирует правую часть стола более близко.
— Это… младший Цай?
— Да, господин.
— Он не ест, но заставляет охрану пробовать и затем накладывать на тарелку. Его ума дело или инструкции?
— Инструкции. Молодой господин спесив, агрессивен и язвителен. Недолюбленный и недалекий.
Ли Хенг говорит это ровным голосом, но Фэй чуть поворачивается в кресле, чтобы оценить его выражение лица. Адвокат Ли не спешит смотреть в ответ, а когда все-таки делает это, выглядит беспристрастнее мраморной статуи. Хань Фэй подпирает голову рукой и говорит на тон ниже:
— Задел господина Ли за живое?
Хенг смотрит все так же, когда произносит:
— Предположил, что я раздвигаю перед тобой ноги, как обычно думают все и всегда, потому что я люблю секс. Секс и выгоду. Меня это не задело.
— А что тогда?
Хань Фэй никак не реагирует на эти предположения. Он успел навести справки о Хенге, в змеином кобле триады ходили слухи похлеще. Фэй даже подозревал, что часть из них — правда.
— Он упомянул мою мать. В крайне нелестном ключе.
Хань Фэй ничего не говорит, только смотрит. Затем снова поворачивается к экранам. Он не видит едва заметную усмешку на губах Хенга, который снимает блокировку с телефона, желая проверить как там дела по Ванцзе. Господин Хань наверняка спросит об этом ровно через семь минут, прежде чем встать и наконец-то пройти в зал к собравшимся.
[В Ч. задействованы три поисковых бригады в отмеченных районах.
Путь прослежен до деревни Цито. Видеоматериалы изъяты из регистраторов. Обезврежено четыре группы оппонентов, в том числе и «Серые головы».
Расчетное время обнаружение объекта: 24 часа.
Приказ взять живым и невредимым понятен, распространяется и на спутника объекта. Учтено. Следующий контроль через полтора часа].
Хенг перечитывает сообщение дважды и отправляет лаконичное:
«Постарайтесь сократить время обнаружения и доставки. Дракон в ожидании».
Вместе со щелчком блокировки, Хенг слышит вопросительное «Ванцзе?».
Рука адвоката Ли снова сжимает спинку кресла, он отвечает:
— В процессе. Дают себе день.
— Скажи, чтобы поторопились. После собрания, будешь отвечать лично.
— Уже. Принято.
Хань Фэй кивает. Наблюдает за главами еще где-то с минуту и встает, забирая кружку с собой. Хенг бросает последний взгляд на мониторы. Младший господин Цай наконец-то надкусил кусок баранины со своей тарелки.
Хенг мягко закусывает щеку изнутри на пару секунд, отворачивается и следует за Хань Фэем. Сотрудники отдела охраны наконец-то могут вернуться на рабочие места, а не толпится в коридоре.
Фраза, которой Дракон приветствует глав, когда двери зала открываются перед ним, заставляет Хенга собрать в кулак всю свою стойкость и беспристрастность, чтобы не засмеяться в голос. Хань Фэй говорит спокойно и даже лениво, когда усаживается в единственно свободное кресло и ставит перед собой кружку с недопитым чаем.
— Как вы понимаете, я хорошо осведомлен о том, что вы любите жрать, а значит, я знаю, чем вы срёте. Можете не вставать и не кланяться, уважение ваше я уже увидел. Дожевывайте, чего притихли.
Фэй касается края своего пластыря на шее в желании сорвать, ведь взгляд каждого прикован к тому, что тот может скрывать. Сам Хань Фэй уже и забыл об этом, привыкший к ноющей боли по телу разной степени интенсивности. А сейчас тем более полегче — боль убавила свое «звучание» из-за таблеток.
Адвокат Ли встает за его креслом и Хань Фэй поворачивается к нему.
Смотрит долю секунды, затем говорит, отворачиваясь: «Организуй себе стул. И тарелку».
Ли Хенг не сразу понимает, а когда осознает, не уверен, что понял правильно. Но учитывая то, что господин Хань встал и отодвинул кресло левее, чем чуть не спровоцировал явный инфаркт у старейшего главы семьи Чэюе, он имел в виду то, что имел.
Хенг в очередной раз отстегивает рацию с пояса рядом к кобурой и сипло шелестит в нее: «Необходимо еще одно место за столом вместе с приборами, спасибо».
До выстрела остается двадцать три минуты и десять секунд.
х х х
Деревня Цито района Цзяньцзян города Чунцин
Какой бы широкой ни была кровать (а в лофте Сяо Чжаня та была скорее большой, чем средней) Ван Ибо жался к нему всем телом, даже если засыпал иначе.
Что же говорить, если ваша «новая» кровать в два раза меньше?
Вопреки онемевшей руке и шее, это казалось уютным. Да, именно уютным.
То слово, которое никаким образом не могло резонировать с этим номером.
Стены, выкрашенные в гадливо зеленый оттенок, краска которого облупилась в паре мест. Дешевые гобелены с изображением хризантем, под которыми (судя по хаотичному расположению), наверняка скрывается нечто похуже. Пол грозился оставить в босых ногах пару заноз, хоть разгуляться было негде — комната вмещала в себя кровать и сразу же комод у окна, узкий проход к двери, да и все. Что еще надо-то?
На комоде ютилась нерабочая настольная лампа с не менее гадким розовым абажуром, золотая визитка на «золотом» блюдце, на которой значилось название этого местечка и один единственный контактный номер вместе с QR-кодом.
Только Небо знает, куда тот ведет.
Лампочка под потолком работала исправно, затянутая в корсет желтого плафона. Чжань помнит, как был счастлив, когда Ибо наконец-то нашел на стене кнопку, которая выключила этот адский свет (та оказалась под одним из гобеленов, сам Сяо Чжань туда лезть побоялся бы).
Чжань как раз смотрит на нее. Потухшую и свисающую на жгуте провода, озаренную лучами естественного света — солнце слепило, вопреки мутному стеклу окна. Прикрыв глаза, можно было сосредоточиться на звуках: за толстыми, старыми стенами отеля, просыпалась деревня. Скрежет велосипедов, гул рассекающих вне дорожных правил мопедов, кряхтение тачек, которые тянут вручную, неразборчивые разговоры в громких и ярких тонах, клаксоны, шелест шин по дорогам гравия, отдаленное кудахтанье и приглушенный, трескающийся звук старого радиоприемника. Деревня казалась не менее шумной, чем город, но имела другую тональность.
Все это казалось более живым.
И судя по этим «живым звукам», время уже не раннее. Во всяком случае, для такого места.
Чтобы посмотреть на часы, Чжаню необходимо вытащить свою руку из-под головы Ибо. Но как и со многими ловушками — чем упорнее пытаешься выбраться, тем теснее те становятся. Чжань шепчет «мне нужна только рука». Ответ приходит в виде несогласного мычания. Улыбка сама появляется на губах. Чжань замедляет движения, упираясь спиной в стену. Все-таки приподнимается немного и тянет руку опять. Ибо сползает ниже, фырчит что-то неясное и все такое же недовольное, в итоге утыкается лицом куда-то пониже груди и обнимает Чжаня изо всех сил. Рука на свободе.
Семь часов утра.
Деваться особо некуда, да и Чжаню не хочется. Удобно обнять в ответ, сползти тоже чуть ниже, чтобы ткнуться носом в волосы. Правда, теперь его пятки свисают с кровати.
Ван Ибо пахнет пылью, ароматизатором салона машины (Сяо Чжань взял какой-то почти что ядреный, сандаловый, так что неудивительно, что все так пропахло), почему-то чем-то дымным ну и… собой. Последнее — лучше всего, но не имеет названия.
Как бы Чжань ни пытался разобрать все это время.
— Уже семь утра. Ты не рассказал какой у нас план дальше.
— М-м.
— Нужно поесть. Мы давно не ели. Мой желудок уже прилип к спине, Ибо. Надо вставать.
— М-м…
— Ты сам есть не хочешь?
Последний вопрос провоцирует Ибо лениво прихватить губами ближе к изгибу шеи. Сяо Чжань только цокает языком и продолжает ворчать на ухо: они черт знает где, а он хочет нормальный завтрак, а что будет, если сейчас снова кто-то объявится, они что снова не поедят, нужно ли ехать дальше и куда, почему Ибо такой тяжелый, и почему он совершенно не заботится о своем гэ, которого втянул в черт знает что, а еще нужно связаться с Баем, пока тот не поднял на уши всех до кого дотянется, а Сяо Бай тянется хорошо (на этот моменте могло показаться, что Ибо слишком тяжко выдохнул), раз босс не отвечает, а не отвечает он, потому что Ибо сказал отрубить телефон, вытащить карты, а лучше всего — вообще телефон выкинуть, но Чжань пока на это добро не давал, а что, а если, а почему, а как вообще…
— Хорошо, все, я понял, гэ, я встаю, все, да, еда, я понял… сначала — еда.
Ибо отлепляется от нагретого собой же Сяо Чжаня, чтобы разлепить свои ясные очи и посмотреть на гэ со всем принятием ответственности за весь пиздец. Ну, именно это он пытался донести, не зная, как оформить в слова. На деле Ибо затапливало благодарностью. Настолько сочной и глубокой, что было даже непонятно, за что именно он благодарен Сяо Чжаню. Ибо говорит свое внезапное «спасибо» раньше, чем думает.
Чжань чуть склоняет голову с усмешкой на губах, ерошит его волосы, затем похлопывает по щеке, интересуясь: «За что это спасибо, Бо-ди?».
Тот пожимает плечами, выпрямляется и тянется всем телом к потолку, чуть не задевая кончиками пальцев несчастную лампу.
Ляпает:
— За то, что не съел меня, конечно, раз ты такой голодный…
Сяо Чжань издает свое фирменное фырканье и пихает его, чтобы свалил с кровати быстрее. У него все тело затекло, а он уже не молод. В отличие от некоторых.
«Некоторые» согласно мычат.
За что получают по своей тренированной пояснице стянутым с ноги носком.
Со странным ощущением необратимого, Чжань думает, что сейчас ему с Ибо легче, чем было до этого. Возможно потому что с некоторых «тайн» сдернули завесу, и правда, детали которой еще придется понять, хоть и казалась не менее опасной, чем все предположения, все-таки наконец-то прозвучала.
А ведь, какой бы та ни была, она все равно лучше, чем неизвестность.
х х х
— Я не уверен в каком именно возрасте меня забрали, я всегда рос в Доме… гэ, аккуратно.
«Аккуратно» — это про желание залезть на высокий бордюр, явно самодельный и сделанный из кривых бетонных блоков. Чжаню смешно. Ибо смотрел на него другими глазами: в них читалось то опасение, то ожидание подвоха, какая-то совершенно щенячья надежда и уязвленный страх.
Тот все еще ожидал каких-то бурных и отрицательных реакций.
Чжань понимал, что его отношение к происходящему, наверное, не очень нормально.
Окей, оно точно ненормальное.
Но с чувством, будто бы ему дали разрешение на то, чтобы вырваться из обыденной жизни, он ничего не мог сделать. Ему нравилось. Нравилось, что он попал в какую-то заварушку, что вся его жизнь за пару часов перевернулась с ног на голову, что он сейчас в какой-то деревне за пару десятков километров от Чунцина (а на деле хотел бы оказаться еще дальше), уплетает за обе щеки странный и не самый вкусный завтрак в своей жизни (в бульоне, щедро заправленным зеленью, плавал набитый мясом куриный желток и почти что сварившийся арахис), слушает скомканную и смущенную версию жизни Ван Ибо «до», и в любой момент должен быть готовым бросить завтрак и нестись по вымощенным булыжниками дорогам деревни до ближайшей машины, или чего, чтобы снова «сбежать от погони»…
Да, Ибо проговорил такой возможный сценарий, прежде чем они вышли из отеля «на охоту за завтраком». Та началась по причине того, что включенная в оплату трапеза их не устроила — быстрозавариваемый рамен не был сытным, а пепси только раздразнило голод и жажду.
В голове засело дурацкое слово из детских книжек: приключение.
Вот же срань. Ему тридцать с щепоткой лет, а покажи ему хотя бы клочок от возможности вляпаться во что-то, кроме кредита или борьбы за тендер, просыпается погребенный заживо ради «приличной жизни» Питер Пен.
Где-то на задворках сознания Чжань понимал, что все это кажется веселым в рамках боевика с экрана, а сейчас, в жизни, это может закончиться очень плохо.
Смертью, например.
Но почему-то даже такая смерть кажется ему более осмысленной, чем вся его жизнь.
— Меня избрали…ну, как… преемником главы. Назовем это так. Он лично воспитывал меня, он мой наставник и как… отец.
— Твой брат, который сидел? Почему ты уверен, что все не так, как говорится в новостях?
— Потому что всё всегда не так, как говорится в новостях, гэ. Я уверен в том, что он меня ищет, поэтому сложно… с одной стороны можно крепко залечь на дно, а если перестараться, то свои искать будут долго… но я уверяю тебя, убивать нас никто не собирается… на самом деле.
— Тебя. Тебя никто убивать не собирается, хоть у меня вопросы к той стрельбе по окнам, в тебя явно очень верят. А вот я могу быть сопутствующим ущербом, например, им же главное — ты. Я понимаю.
Чжань проговаривает это совершенно спокойно и спрыгивает с бордюра. Пустая картонная коробочка летит вместе с палочками в мусорник. В деревне те не делятся на разные отсеки. Чжань смотрит по сторонам, отмечая низкие домики с грязно-белыми стенами, темную зелень кустарников и едва заметный туман, растекшийся дымкой. Там, дальше по дороге. День пасмурный, небо низкое, воздух ощущается чуть прохладным.
Птицы летают едва ли выше кромки деревьев.
Возможно, пойдет дождь. Мимо проезжают то мопеды, то тачки груженные овощами и фруктами. Иногда — побитые жизнью минивэны. Рынок близко.
Ибо встает перед Чжанем, закрывая обзор и тем самым заставляя смотреть на себя.
— Тебя это нервно веселит или что? Гэ, честно, я могу спрятать тебя и… не знаю. Я пойму, если… поговори уже со мной. Что мне делать? Как мне это исправить?
Чжань смотрит. Ибо кажется ему куда взрослее теперь, почти что так же, как было на том корпоративе, можно сказать, что в прошлой жизни. Это странное чувство.
Сколько он говорит ему, девятнадцать? Какая же хрень. В девятнадцать нельзя иметь такое серьезное лицо. Чжань кладет ладонь на плечо Ибо, чтобы иметь опору, и поднимает правую ногу, чтобы посмотреть на подошву кроссовка. Так он и думал, маленький камушек застрял между прорезиненным рисунком и мешается. Легкий щелбан по нему решает вопрос.
Когда Чжань снова смотрит на Ибо, убирая руку с его плеча, то видит почти что обиду. Ван Ибо продолжает смотреть и в этом уже нет ничего от просьбы.
Окей.
Чжань переводит дух и отводит взгляд, когда говорит:
— Тут такая странная штука, Ванцзе. В моей жизни было много… моментов, которые должны были сделать меня счастливым. М-м. Успехи в школе, вхождение матери в ремиссию, когда я поступил в университет. Ей, кстати, обязательно надо позвонить, даже если это выдаст нас всей твоей или чужой… сетке или как это называется… сетка, секта, мафия, триада, якудза… мама — это святое… м-м. Гранты, первая работа, первые престижные награды, даже переезд на тот момент моего… любимого, как мне думалось, человека, ради меня в Чунцин… покупка недвижимости, и я сейчас не про Китай. Признание. Крутые проекты. Я даже вожу дружбу с кланом аль-Нахайян и строил для ОАЭ несколько ансамблей зданий…
Чжань умолкает, думая, что занесло его куда-то не туда. Сует руки в карманы спортивных брюк, переминается с носков на пятки, затем все-таки смотрит на Ибо. Тот ждет. Обида во взгляде немного утихла, ее место заняло легкое замешательство. И снова. Этот абсолютно несчастный и откровенный взгляд. Вот он я, смотри, мне очень важны твои слова, они как оружие или как лекарство, используй их мудро, пожалуйста, я так от них завишу. Плохо это, наверное. Но разве сам Чжань не такой же? Просто смотреть так уже, кажется, не умеет.
Сяо Чжань понимает, что ему нужно набраться смелости.
Пауза затягивается, но Чжань не дает себе отвести глаза, когда наконец-то говорит:
— Так вот… штука в том… что несмотря на то, что я… поверь, понимаю, что мы тут не цветочки нюхать приехали и моя расхреначенная выстрелами квартира очень…показательное происшествие, показывающее, как все… страшно, видимо… штука в том, что кажется… я никогда раньше и не был счастлив. Потому что я счастлив сейчас, я понимаю это, и все, что было раньше, кажется… враньем. В плане, тогда я был счастлив, потому что по логике вещей должен был быть счастлив. А сейчас… стоя здесь без нихера, и скорее всего, с потенциальной изжогой после этого супа… но с тобой, и… получается, вопреки логике, да? Вопреки логике, я сейчас счастлив. Очень. Так что выдохни. А то, что меня могут убить, ну… знаешь. Я мог умереть от ковида, могу в любой момент откинуться от какого-нибудь тромба, а может я споткнусь и упаду с высоты своего роста и на тебе, вот уже черепно-мозговая, а может меня просто собьет сумасшедшая бабуля на мопеде, это же Китай, в конце концов, никто не…
Чжань не может договорить свой несколько нервный словесный поток, потому что Ибо впечатывается в него всем телом, обнимая так крепко, что больно, а в следующую секунду затыкает наилучшим способом на свете. И даже если мимо и едет сумасшедшая бабуля на мопеде, та предпочтет объехать этих двоих стороной, с мыслями о том, что так детей не сделать, и молодежь нынешняя совсем из ума выжила.
Действительно. Но как же это прекрасно.
х х х
[Объект обнаружен. Ждем корректирующих указаний или подтверждения в течение двадцати минут. Если тех не последуют, действуем по ранее оговоренному плану].
[Приступили к исполнению].
12. 受…支配
х х х
XII.
Когда человек берется за оружие,
он обязательно хочет что-то защитить.
Шанхай
Река Хуанпу разделяет Шанхай надвое. Воды обгладывают бетонные берега, носят на себе корабли и паромы, питают весь город. Через Хуанпу переброшены мосты-братья — Янпу и Нанпу. Если смотреть на Шанхай с высоты, то кажется, будто бы два извилистых дракона играют с жемчужиной — Восточной башней, которую так и называют — Восточная Жемчужина. Еще один железный мост, массивный и статный, перекинут на стыке реки и ручья Сучжоу. Этот мост — Вайбайду, — врос в берега столетие назад, его часто можно увидеть в хрониках и на старых снимках. Если наблюдать за Хуанпу, вторя её течению, то можно стать свидетелем грязного танца: серо-стальная лента врезается в желтые воды Янцзы, насыщенные песком, и всё это стремится к зеленым водам восточного моря.
В сезон дождей этот танец, вихрастый и бескомпромиссный, словно танго врагов, виден довольно чётко.
Ли Хенг стоит на самом попсовом месте — набережной западного берега Шанхая. Бунд или Вайтань. Как вам угодно. Хенг запахивает пальто на себе поплотнее, оно ему велико, застегнуть на себе такое — просто преступление против хорошего вкуса. Пальцы скользят в карман за пачкой сигарет. Те достаточно тонкие, но не длинные. Угольная бумага, плотный фильтр и сбор трав с гвоздикой поверх табака и никотина. Зажигалка, дешевый крикет, втиснута на место уже выкуренного, вытащить её удается со второго раза. Хенг чуть наклоняет голову, сунув сигарету между губ, прикрывает хилый огонёк ладонью. Глубокая затяжка. Размеренный выдох. Солнце еще не показывается, прячется за разросшейся линией небоскребов, омывает их контуры янтарно-чайным. Хенг вдруг понимает, что тысячи раз за жизнь видел закат с этого ракурса, но ещё никогда — рассвет.
Ночь выдалась тяжелой. Хенг прикрывает глаза, рискуя упустить момент, когда утренняя звезда наконец-то покажет себя. Под веками смутно тлеют недавние события. В них он сидит по правую руку от Хань Фэя. Тот не прикасается к еде, только пьет чай. Мысль ускользает, переплетается со временем, когда Хенг читал «аналитические заметки воспитателей господина» — все те, кто когда либо учили господина Ханя хоть чему-то, каждую неделю выписывали минимум по две страницы своих впечатлений, прогнозов и советов. Один из наставников посвятил этому сорту чая целый разворот — считал огромной удачей, что юный господин так увлекся именно «тигровым бальзамом», тот очень плодотворно влияет на все системы организма, а особенно — на нервную и сердечно-сосудистую. Хенг знал, что список учителей на последней странице имеет свой секрет. У тех людей, чьи фамилии отмечены красной точкой, жизнь оборвалась ровно после последнего урока для юного господина. И именно эти люди нравились юному господину больше остальных.
Бесконечный урок от госпожи Ма — ты всегда будешь терять то, к чему имел глупость привязаться. Она считала, что эту способность нужно из себя вытравить. Хань Фэй вынес из этого что-то другое.
Да, Хенг сидел по правую руку. Занял место доверенного лица в опасной близости к главе. Это место обычно занимают либо кровные родственники вхожие в дела семьи, либо жены, если те отличаются умом и холодом нрава. Зачем он сделал это? Зачем Хань Фэй продемонстрировал такое отношение, словно нацепив на Хенга мишень для этих стервятников?
Или дело в другом?
Хань Фэй перечислял все беды триады с момента «великого обновления», не скрывая легкой издевки в голосе, — это когда Китай вышел на открытый рынок, и коммунистическая травля ощутимо ослабла. Господин Хань жестко раскритиковал шаги каждого из глав семей, что присутствовали за столом. И весь их успех, вся власть, что те думали, они имеют, оказалась пустышкой. Господин Хань наглядно это продемонстрировал, когда всё-таки потянулся за куском мяса. Не палочками, не каким либо из столовых приборов. Пальцы, сильные и решительные в своем варварстве, впились в бок обжаренной свинины — её ломти, нарезанные тонко, лежали рядом, но господин Хань просто оторвал себе кусок. Положил на тарелку.
А затем сказал лишь одно слово-приказ: «вскинуть».
Пистолеты каждого из охраны были поразительно знакомы. Хенг сам проверял арсенал и лично руководил закупкой глушителей на модели глоков. Но их охраны, а не охраны приглашенных семей. Как пистолеты оказались у них?
Те самые люди, которые так и не сдали оружие (и хоть Хань Фэй знал это, почему-то просто кивнул), сейчас направили пистолеты на своих хозяев. И никто ничего не предпринял. Хенг не рисковал посмотреть на Хань Фэя. Как завороженный, он уперся взглядом в дуло, которое сейчас плотно прилегало к виску…младшего господина Цая.
Хань Фэй продолжил, принимаясь возиться с мясом — он разделял его пальцами на своей тарелке, затем потянулся к сосуду с соусом, слегка полил чем-то вроде жидкого вишневого конфитюра, поставил обратно:
— Многие из вас не стали есть, когда я сказал начинать. Кто-то для начала решил «потравить» шестерок и секретарей, чтобы проверить, не напичкали куда цианида. Кто-то даже и на это не пошел. Кто-то пил из своего термоса. Уморительно. Так поступили те, кто знают, что их есть за что убить, не так ли? Но мне не нужно травить вас. Мне не нужно подстраивать что-то… мне достаточно внести только мысль. Мысль, что у хозяев есть свой господин. И он разрешает отомстить за все унижения. Недостойные люди не имеют права управлять достойными людьми. Вы не поверите, но те, кто сейчас с таким наслаждением вдавливают в ваши головы будущую смерть, даже денег не просили. Только гарантию, что им правда дадут это сделать взамен на животную верность. Мне. Искать не пришлось долго. Дело не в том, что вы хреновые партнеры, господа, или в том, что прошлые ваши ошибки стоили моей семье многого, это не месть. Месть мне ничего не даст. А вот — чистка… сейчас вы явно жалеете, что не испробовали все блюда, да? Мои люди старались, чтобы на столе было только самое любимое вами. Как предсмертная трапеза. Я же не зверь какой-то.
На последней фразе господин Хань наконец-то оказался доволен своей тарелкой. По мере его речи, к кляксам соуса присоединилась россыпь гранатовых зерен, дольки мелких помидоров и пару листьев мяты. Хань Фэй поднял взгляд и обвел сидящих за столом долгим взглядом. Его лицо оставалось беспристрастным.
Ли Хенг видел убийства ранее. Наблюдал со стороны или даже в непосредственной близости. Каждый раз это ознаменовало новый поворот в его судьбе. Единожды он сам приложил к этому руку, спасая собственную жизнь. Наверное, тот раз предрек всю его жизнь. Но в тот момент. Ли Хенг ещё никогда не видел таких убийств. Столь простых и даже в чем-то бытовых. Как процесс увольнения в большой фирме.
«Мы больше не нуждаемся в вашей службе, оставьте бейджик у администратора».
Воздух звенел от напряжения. Никто не был в силах выдавить из себя не то, что слово. Никто не был способен на звук.
Хенг заставил себя смотреть и осознать, что будущие смертники действительно только те, кто не притронулся к еде сразу или самостоятельно. К разнообразию запахов съестного, добавилось и что-то еще. Так пахнет несвежая рыба. Догадка проскользнула в мыслях, заставляя Хенга чуть отодвинуться от стола, а затем наклониться, заглядывая под. Судя по луже, молодой господин Цай нехило обмочился. Хенг плавно выпрямился. По правде, в тот момент он был без понятия, что чувствует. В голове уже крутились схемы для того, чтобы избавиться от тел. Вместе с тем на фоне зудели вопросы «почему он не ввел меня в курс дела и когда успел всё провернуть?», и он знал, что никогда не задаст их.
С той минуты Дракон заявлял о себе и вводил свои порядки.
А они всегда начинаются с чистки. Кто шел на эту встречу понимал, к чему всё идет?
Может, это настоящая причина, по которой старик Цай не приехал сам, а отправил своего отпрыска?
Хань Фэй не дал никому ни последнего слова, ни последней просьбы. Он только бросил «давайте», принимаясь наконец-то есть свинину. Звуки выстрелов пошли по часовой стрелке, Хенг не давал себе закрыть глаза, скользил взглядом по блюдам на столе. Головы глав с глухим стуком падали то на стол, мимо тарелок или прям в них, то заваливались на бок. Фэй вскинул руку за секунду до последнего. Младший Цай тонко взвизгнул, дернулся и свалился со стула. Его охранник с массивной челюстью, вместо того чтобы выстрелить в его голову, поднял пистолет и выстрелил холостым в воздух. Затем положил пистолет на стол и кивнул господину Ханю. Тот, прожевав, повернул голову к Цай Шеню. Но не обнаружил его на стуле. Так что пришлось чуть отодвинуться и посмотреть вниз. Младший Цай крупно содрогался всем телом, продолжая тонко повизгивать, а затем рухнул в рыдания, сжимаясь жалким комком на темном мраморе пола.
Да, триады в последнее время занимались просто грязным бизнесом, но не традициями. Малец явно не в курсе дел.
Хань Фэй слегка поморщился.
— Господин Цай… трупы оставляют после себя столько дерьма, но вы умудрились нагадить по жизни раньше них. Услышьте меня. Передайте отцу, что мне было приятно увидеть вас. Но приятнее мне было бы наведаться к старику лично. Так что я жду приглашения. Сможете передать?
Завывания с пола притихли, но господин Цай все ещё рыдал. Тогда Хань Фэй перевел взгляд на его охранника. Тот лишь кивнул ещё раз.
Оставшиеся в живых, в том числе семья Ханьси, сидели ровно, с их лиц схлынул весь цвет. Хань Фэй сунул еще порцию мяса в рот, откинувшись на спинку стула. Он смотрел на главу семьи Ханьси, на его недоеденные уйгурские лепешки. Затем на такого же круглощекого сына. Ханьси Чуньсы. Самый младший в этом помещении. И тот не обоссался, казалось бы. Фэй переводит взгляд на стол, чуть хмурится. Салфетка появляется перед его лицом, сжатая тонкими пальцами адвоката Ли. Господин Хань только усмехается, принимая её, вытирает пальцы от мясного жира и соуса.
— Господин Ханьси… в первый год, когда я только попал в колонию… мне очень помог один старик. Я многому у него научился… тот часто вспоминал вкус этих лепешек. Вы ведь мусульмане, верно?
Господин Ханьси заставляет себя кивнуть, но не смотрит на Хань Фэя. Тот кивает тоже.
— Как вы могли заметить, у нас тут некоторые перестановки… ваша семья всегда была предана и делу и своим принципам. Я очень высоко ценю это. Так что хотел бы ввести вас и вашего сына в курс дела. Господин Ли… мой адвокат и секретарь, напишет вам, когда лучше ко мне явиться. Я хотел бы внести некоторые корректировки и приобщить вас к новым линиям бизнеса, у нас… открылись вакантные места. Меня интересует возможность контрабанды дешевых аналогов лекарств от всякой сложной хвори. Из Индии. Мы несколько потесним фармацевтический рынок. Тоже самое я ожидаю от семьи Фа. Кроме прочего, от вас я жду партийный билет и возможность подвязать яйца зажравшимся скотам на мнимой верхушке. Только нежно. Они пугливые.
На последней фразе господин Хань переводит взгляд на долговязого и худосочного представителя семьи Фа. Тот был настолько расслаблен в заданных условиях, что уже спокойно подносил ко рту пиалу с чаем. Хенг вспомнил, что там должен быть жасмин — его любимый. Господин Фа даже встречается взглядом с Драконом и слегка склоняет голову, выговаривая на шелестящем южном диалекте: «Как вам будет угодно, господин».
Ну а потом случилось то, что Хенг подозревал, его не порадует. Господин Хань поручил ему разобраться с трупами. Кажется, будучи в полной уверенности, что у адвоката Ли отработан механизм. Конечно, отчасти так и было. Просто тот надеялся, что ему не придется использовать эти связи так рано.
Он потратил ночь на то, чтобы втиснуть пару трупов в плотный график крематория, проконтролировать перевозку еще парочки на химическое предприятие, где в чанах высокой кислотности можно было избавиться от тел до последней клетки. И сейчас, с рассветом и по старой традиции, он должен был отправить семьям убитых извещения.
Записку, сложенную в белый лотос плотной бумаги, где нет сожаления, а лишь голый факт.
Семья Хань избавила от позора вашу семью и желает процветания в новом году.
И всё же. Почему господин Хань не сказал ему, что задумал?
Это задевало, хоть не должно было. Хенг попал в ловушку собственных ожиданий и желаний. Это опасно и глупо. Он трёт докуренной до фильтра сигаретой по перилу мостовой, не бросает окурок в реку, а кладет обратно в пачку. Пальто надо бы вернуть.
Господин Хань накинул его на него, прежде чем сесть в машину, мешая поклониться.
«Тебе еще всю ночь возиться, можешь заболеть».
И что это было?
Хенг хмурится, снова кутается в пальто плотнее, его почти убаюкивает запах шафрана и табака. Оказавшись в центре Шанхая, он подумывал вместе с открытием зайти в торговый центр. Там он сможет купить бумагу для своего будущего занятия, а затем пройдется до Старбакс. Возьмет кофе, завтрак и примется складывать бумажные лотосы.
Чудная у него работа теперь.
Телефон вибрирует во внутреннем кармане, приходится за ним лезть. Ветер подхватывает полы пальто, треплет по волосам, холодные пальцы открывают сообщение. Со всей этой кутерьмой Хенг не особо следил за ходом действия по вытаскиванию младшего господина Ханя — Ванцзе, — довольствуясь тем, что «объект под слежкой». Браво.
Теперь статус объекта изменился на «объект в капкане, изъятие в течение четырех часов». Расчетное время прибытия в Шанхай — два часа дня.
Интересно, Хенг успеет немного поспать?
х х х
— Как же бесит…
Марко вложил в эту фразу всю горечь пережитых суток. Горечь заключалась всего в двух фактах: в напарники ему достался Вон, и он запачкал свою кремовую рубашку. Казалось бы, на что он мог рассчитывать, идя на очевидно грязное дело? Но Марко измазал свою рубашку не кровью, это было бы привычным. Его рубашка пострадала от колдобины на дороге, благодаря которой медицинский джип малость подкинуло и кофе из стаканчика частично оказался на его груди. Благо, холодный.
— Ты не мог аккуратнее везти? У нас еще и объекты… вон, сзади лежат. Если с их головами будет что-то не так, я скажу, что это потому что ты водишь как мудила.
Вон отвел взгляд от дороги (да как же бесит!), чтобы смерить Марко взглядом через свои тонкие очки. Чаще всего на этом их коммуникация заканчивалась, но тут Вон расщедрился:
— Мы едем на скорой старого образца. Любая трещина в асфальте заставляет её резонировать. И каким надо быть идиотом, чтобы решить пить в такой тачке кофе из стаканчика?
Марко реагирует на это только передразниваем последней фразы: «Кохе изф стякянчика», и оборачивается на объекты. Молодой господин и его… его кто, они так не совсем поняли, устроились кое-как: Марко и Вон вытащили из скорой кушетку и расстелили матрас просто на полу, чтобы втиснуть их совместно. Всё-таки до аэродрома часа два ходу по этим сельским дорогам.
Очевидное было уяснено четко: эти двое явно трахались. Они следили за ними добрую половину дня, поджидая момент и способ, чтобы использовать снотворное. Господин и его… его партнер не имели ни стыда, ни совести, а юный господин мнил себя гением конспирации. Марко и Вон стали свидетелями легкого порно у бывшего «дома культуры», где у облупленной белой стены эти двое сосались добрых минут десять. Они шатались за ними по рынку, наблюдая, как юный господин всё пытался взять этого мужчину за руку, а тот давался секунд на десять.
Марко раз сто за это время пожалел, что не рискнул вломиться в забегаловку с куриными супчиками, чтобы хорошенько высыпать порошок в порции для этих двоих. Таким образом оставался вариант с инъекциями. Для этого надо было подобраться к ним как можно ближе и плотнее, рынок отлично подходил. Страшно подумать какими беспечными может сделать людей чувство. То, что юный господин втрескался по уши сомнений не было. Да, он конечно оборачивался раз по двести, даже задерживал то на Марко, то на Воне долгие взгляды…но тем не менее, что мы имеем? Правильно, уколоть удалось, утащить удалось, а если бы это были не свои?! Ужас. Юного господина придется перевоспитывать… очередная колдобина. Остатки кофе в этот раз выливаются уже в лицо Марко. Тот отфыркивается от гадкого пойла и смотрит на Вона. Тот даже не пытается скрыть довольную усмешку. Коричневые капли стекают по лицу, одна капает со вздернутого кончика носа Марко.
Тот говорит спокойно:
— Наступит день и я тебя пристрелю.
— Ты обещаешь мне это вот уже два года.
Скорая, с почти что стертыми надписями и еле видимым красным крестом, заворачивает в очередной раз, проезжая через заброшенные угольные шахты. За ними находится старый военный аэродром, на котором уже ждёт своего часа вертолёт.
До Шанхая им лететь всего ничего, часа три, а может и меньше, ветер-то попутный. Объекты к тому времени ещё не проснутся.
х х х
— Те двое… они следят за нами… это наши. У одного татуировка камелии выглядывает… м-м? Нет, не до конца, но ведь до сих пор никто не стрелял, правда?
— Ничего не бойся, гэ…
— О, а давай их подразним… нет, я и без этого хочу целовать тебя… всегда целовать тебя…
— Ничего не бойся…
Не бояться кажется сейчас самым естественным состоянием. Плотный молочный туман словно наполняет изнутри, растекается вовне. В нём тепло и спокойно. В нем нет ничего, и сам ты — ничто. Так могла бы длиться вечность.
— Господин Сяо… вам бы уже прийти в себя… Господин Сяо?
Никаких мыслей. Никаких желаний. Никаких страхов. Никакого невыносимого чувства.
Ни вины, ни боли, ни радости, ни счастья.
— Ваши веки подрагивают. Осталось немного. Давайте, выныривайте.
Зачем ему это делать, неба ради? Он же не дурак.
— Единственным способом удержать Ванцзе от того, чтобы ворваться сюда, было засунуть того в томограф. Из той штуки трудно выбраться самостоятельно. Если бы эта больница не была в моих владениях, счёт за такие фокусы встрял мне костью в глотке.
Ванцзе? То есть, значит — Ван Ибо? В томограф? Что?
Молочный туман исчезает стремительно, словно кто-то вытащил пробку, и вся кремовая нега хлынула потоком в сток. Чувство досады за этим не следует, только глухая боль. На место покоя приходит онемение, вот, что это было на самом деле. Всё тело словно набито мелкой галькой и песком, открыть глаза кажется непостижимой задачей. Мысли в голове обретают форму: вплетаются образами и звуками. Что он помнит последним? Они были на рынке. Сяо Чжань хотел купить груши и апельсины. Они были на рынке. Ван Ибо держал его за руку. Они были на рынке, они…
— Давайте же. Мне нужно задать вам всего лишь один вопрос, прежде чем я пойму, что делать дальше. Ваш анализ крови показал, что транквилизаторы, которые вы приняли, все ещё не были выведены из организма. Поэтому инъекция вырубила вас куда сильнее, чем рассчитывали. В остальном вы в полном порядке. Нет причин продолжать отдыхать в отключке.
Сяо Чжань открывает глаза. Режущее чувство в них проходит только после того, как он несколько раз моргает. Почему-то сухо. Не только в глазах. Носоглотка словно выстлана наждачной бумагой. Голос, низкий и уставший, приятно шершавый, скатываясь в хрипотцу, доносится откуда-то слева. Но Чжань не спешит поворачивать голову.
— Отлично. У меня мало времени. Двадцать первого марта, три года назад, Джеймс Шервуд выехал из вашего дома на своем мотоцикле. Вы подрезали ему тормоза?
Джеймс? Март, три года назад, конец марта, Джеймс…
— Три года назад, господин Сяо, Джеймс Шервуд, ваш любовник, выехал из паркинга вашего дома и попал в аварию с летальным исходом. Это вы подрезали ему тормоза? Просто да или нет. Мне надо понять, влюблен ли Ванцзе в убийцу. Остальное меня не волнует.
Что за чертовщина? Подрезанные тормоза? Он не знал об этом. Кто-то подрезал ему тормоза, это не был несчастный случай? Джеймса… убили? Получается, его убили?
— Господин Сяо, откройте рот и скажите. Вы хотели убить Джеймса Шервуда?
В данный момент Сяо Чжань только хочет отделаться от этого голоса. Может, это вообще его галлюцинация? Транквилизатор вместе со снотворным могут давать такой эффект при пробуждении, кто знает? Чжань старается сглотнуть, но нечего. Собственный голос звучит сипло и тихо, Чжань обводит языком губы, это не дает никакого эффекта. Он только чувствует, что те тоже пересохли.
— Да. И нет. В тот момент я хотел бы убить его. Но я не подрезал ему тормоза. Я не знал до этого момента, что они были…
— Я услышал вас. Отдыхайте.
Сяо Чжань закрывает глаза так, словно ему отпустили грехи. Почему-то его накрывает именно это странное чувство. Он силится понять — от чего вдруг?
Подрезали тормоза. Он не был виновен. Их ссора не имела никакого веса. Когда бы Джеймс ни сел на свой мотоцикл, он бы погиб. Летать по улицам Чунцина без тормозов, по всем извилинами дорог, пытаться преодолеть подъемы, и что важнее — слетать по спускам. Это и без того вызов. А если уж тормоза…
Сяо Чжань не слышит и не видит, как господин Хань поднимается из кресла в углу палаты. Он не видит и не слышит, как тот подходит ближе к его кровати. Взгляд скользит по лицу, затем коротко останавливается на капельнице. Хань Фэй идет к выходу и прикрывает за собой дверь. Всё это жутко не вовремя.
Но теперь он хотя бы убедился в том, что принял единственно верное решение.
х х х
Бессмысленные вопросы Ван Ибо не задаёт. Ему уже достаточно того, что его наконец-то пустили в палату. Он так и не видел брата, он так и не знает, что будет дальше. Но самое главное — Сяо Чжань в порядке.
Просто спит. Наверное, выспится на неделю вперед…
Ибо уже переоделся в толстовку и джинсы, ему даже нашли кроссовки по размеру. Хоть, наверное, удивляться нечему. Ибо гипнотизирует спокойное лицо Сяо Чжаня и пытается понять, в какой момент жизни ему так повезло и вместе с тем так не повезло.
Дверь в палату отъезжает, впуская секретаря Ли. Тот сначала представился адвокатом, потом как-то устало выдохнул и исправился, прежде чем отпить из жестянки энергетика щедрый глоток. Первое, о чем Ибо подумал, когда увидел его — господин Ли, кем бы он ни был, во вкусе его брата. Второе — он чем-то неуловимо напоминает ему госпожу Ма. Не внешностью, скорее, манерой говорить и держаться. Например сейчас, когда подошел к нему ближе, он сунул одну руку в карман брюк, а другой — обнял себя. Госпожа Ма всегда стояла именно так, когда раздумывала над чем-то или когда была в чем-то неуверенна.
Ибо поднимает голову на господина Ли. Тот смотрит пару секунд, затем переводит взгляд на спящего пациента Х. Именно под такой буквой тот числится в компьютерной системе. Все файлы удалят, как только они выедут из клиники. Быстрее бы.
Господин Ли проходит к окну, чтобы опереться о подоконник и сложить уже обе руки на груди. Его выкрашенные в медь волосы рассыпались по плечам, сам он весь в черном, из-за чего тот выглядит болезненно. Явно не спал.
Ибо отворачивается, принимаясь снова смотреть на Сяо Чжаня. Будто бы его непрерывный взгляд может улучшить его самочувствие или дать силы на то, чтобы проснуться. Ибо просто хотел бы обнять его и сказать, что всё хорошо.
— Тебя все будут называть молодым господином или юным господином Хань. Тебе будет нормальным такое обращение внутри дома?
— Всё равно.
— А если я буду называть тебя Ванцзе?
— Можете называть меня Ванцзе, секретарь Ли.
Молчание. Кондиционер переходит в другой режим, теперь его шелест слышен чуть сильнее. Ибо цепляется взглядом за красную пластмассу катетера на тыльной стороне ладони Сяо Чжаня. Кажется, медсестра, которая ставила термос теплой воды на тумбу минут двадцать назад, обронила, что у этого господина трудно находить вены. Ибо пытается не думать о том, что кто-то втыкал иглы в руки его гэ, пока тот…
— Я не знаю, осознаешь ли ты в полной мере, что сейчас твоя жизнь кардинально изменится… и на неё есть большие планы. И вот так… но вовсе не по недоразумению, а умыслом… может происходить постоянно.
Ван Ибо не хочет улавливать эту мысль, но он уже сам о ней думал. Выхода он не нашел. Все знают, что этот человек — почему-то для него важен. Если он для него так важен, то его можно использовать. Но он просто будет его защищать и всё тут, ничего сложного.
Просто защищать.
— Завтра господин Хань сделает щедрое предложение на счёт того, как… разрешить эту ситуацию. По старым правилам и по логике вещей, было бы… ты сам понимаешь. Так что то, что ты услышишь завтра — единственный выход. Так что я советую безропотно принять то, что он скажет. И тогда уже время расставит всё по…
— Время?
Ван Ибо отрывается от своего занятия. Он не спрашивает, почему брат так и не увиделся с ним, хоть был здесь. На фоне происходящего его это почти не задело. Господин Ли умолкает, не смотря на него. У Ибо нехорошее предчувствие. Глотку обжигает кислотой, он сглатывает пару раз и подавляет в себе желание прокашляться. Ибо хрипит:
— Если вы намекаете на то, что да-гэ предложит мне оставить Сяо Чжаня или что-то вроде, то я не согласен.
— Ты — такое же слабое место господина Ханя, как господин Сяо для тебя. Если не хуже. Его привязанность к тебе равна любви отца к сыну. И он слишком хорошо знает тебя, что понять, что ты не пойдешь на такое. Он предложит другое. Но я не знаю, на самом деле, что хуже.
Ван Ибо рассматривает профиль господина Ли пару секунд. Затем опускает голову, забирается в кресло поглубже, ставя одну ногу на край сиденья, обнимает ту за колено. Пальцы Сяо Чжаня поднимаются на краткий миг, затем опускаются. Он вздыхает во сне.
Ибо говорит тише, смотря перед собой:
— Хань-гэ всегда говорил, что я — его сила. А не слабое место. Так что и Сяо Чжань для меня — сила.
— Пусть так. В таких испытаниях и правда становишься сильнее, Ванцзе. Но ты опасно влюблён. Ты ещё не знаешь, что может сделать с тобой это чувство и не знаешь, во что оно вырастет по итогу. Точно так же, как не знаешь, что это сделает с ним. В обычной жизни это и так ещё то приключение, а тут… к тому же, мне не кажется, что этот господин Сяо так уж прост…
— Намекните, что предложит мне брат.
Секретарь Ли ведёт плечом, отворачивается к окну. За толстым стеклом буйствует Шанхай. Небо синее и высокое, совсем скоро станет темным. Ван Ибо терпеливо ждёт.
Господин Ли говорит едва слышно:
— При каких условиях легче всего охранять объект?
Ван Ибо не отвечает вслух. Картинка практически складывается в его голове.
Хань Фэй предложит ему выстроить вокруг Сяо Чжаня комфортабельную тюрьму, так, получается?
Такова цена жизни вместе с ним? Согласится ли тот на это? И сможет ли Ван Ибо пойти на такое?
Но у него нет выбора. Вернее, у них. У них нет выбора. Не сейчас, во всяком случае.
Он надеется, что это будет временным решением.
Ван Ибо опускает ногу, трёт по лицу, затем упирается локтями в колени, продолжая следить за Сяо Чжанем. Тот хмурится во сне и даже повернул голову. Наверное, скоро проснется.
Господин Ли больше ничего не говорит. Только проходит к выходу, прежде чем покинуть палату, оборачивается и прощается мягким: «До встречи, юный господин Хань. И с возвращением».
Ван Ибо не отвечает. Дверь в палату закрывается. Осознание того, что неминуемо надвигается, затапливает Ибо собой. Ему необходимо, чтобы Чжань наконец-то проснулся.
Ему необходимо сказать, что всё хорошо. Всё хорошо и будет хорошо. Что бы ни было.
Он обещает.
13. 启明星
XIII.
Любовь есть конечная цель сама по себе. Все иное возбуждает в нашем уме вопрос «почему?»,
и мы ищем на него ответ. Но слова «я люблю» уже не оставляют места «почему?».
Это окончательный ответ на все вопросы.
«Садхана»
Милосердный акт для животного с раскуроченным боком — выстрел в голову.
О нём молятся в триаде.
Преклоняя колени перед статуей Гуань-ди, каждый думает о милосердии. О выстреле. О защите. И о… богатстве. Рисковать своим боком стоит, если за этим есть нечто больше и ценнее. Для многих это деньги. Деньги как эквивалент свободы, деньги как возможность жить лучше, деньги как спасение для тех, кто дороже собственной жизни.
В триаде молятся о милосердии. В триаде молятся Гуань-ди.
Хань Фэй не преклоняет колени. У него другие боги. Он стоит у дверей, ладонь втекает в карман брюк, пока другая тянется к шее. Новая привычка — касаться краёв пластыря от ожога. Тот становится всё меньше с каждым днём. Фэй считает, что в этом заслуга его тела, секретарь Ли — в том, что он каждый вечер нудит и следит за тем, чтобы «господин Хань» нанёс нужные мази. Это не имеет ничего общего с Фэем, просто Ли Хенг считает, что этот след — пощечина по его лицу.
Фэй скользит взглядом по бритым затылкам мужчин, что сейчас смиренно сидят на коленях перед статуей и вдыхают душный запах сандала. Прошедшая первый круг испытаний свежая кровь в их семье. Прежде чем идти дальше, они должны рассказать Гуань-ди всё. Чего желают, чего бояться, в чем виновны, а чем гордятся. Затем они должны будут наведаться к предкам. К мёртвым членам семьи Хань.
Представиться и заверить в своей преданности.
За всю историю человечества существовало около ста семи миллиардов человек.
Мир мёртвых куда больше мира живых. Живые просто редко об этом задумываются.
Именно с этим миром стоит всерьёз считаться.
Мёртвое и мёртвые нависают собой с небес, вскармливаются землей, несут свой прах солёными водами океанов, лижут берега и шепчут: «Ты станешь нами скорее, чем думаешь». Иногда, одинокой ночью или в момент особой грусти, люди слышат этот шепот. Но толку о нём думать или шептать в ответ?
Хань Фэй пересчитывает бритые головы. Из тридцати трёх осталось двадцать семь. Разница между этими значениями убита. Они знали, на что идут и знали, что будет, если не справятся. Жизнь этих двадцати семи начинается заново. Как только они выйдут из храма — получат имена, забыв прошлые. Таковы традиции. Такова плата.
С которой чаще всего каждый рад расстаться.
Конфуций говорил, что у каждого есть две жизни. И вторая начинается тогда, когда человек осознает, что жизнь всего одна. Такая вот легкая арифметика реальности.
— Прекратите. Трогать. Пластырь.
Хань Фэй поворачивает голову вправо, затем чуть наклоняет. Ли Хенг едва ли выше его плеча. Сложил руки на груди, встав рядом. Смотрит на мужчин. Так же, как и Фэй минуту назад, пересчитывает головы. Едва заметное хмыканье. Очевидно, Хенг рассчитывал, что выживет меньше. И вот вопрос, дело в том, что испытание было слишком легким или в том, что эти люди все же лучше, чем думалось? Только время покажет.
Хань Фэй расслаблено опирается спиной о стену, в этот раз сунув обе ладони в карманы брюк. Хенг смотрит в лицо статуи. Гуань Юй отлит в бронзе. Его одежды развеваются на ветру, который никогда его не покинет. Подбородок божества поднят, взгляд устремлен ввысь, рука крепко сжимает легендарную гуань дао. Хенг скользит по ней взглядом. Мощное, холодное оружие, такое же древние, как и храм вокруг. Широкий, изогнутый клинок. Если отпилить эту алебарду от статуи, она вполне может помочь изрубить пару врагов. Ли Хенг шепчет чуть громче:
— В Мьянме горят плантации. Не все семьи были рады вашему подарку в виде избавления от кормильцев к новому году.
Хань Фэй наблюдает со своей позиции за Хенгом. Волосы тот убрал в высокий хвост, можно оценить вид на шею, заметить следы от проколов в ушах. У Хенга почти что не заметен кадык, зато есть родинка. Аккурат возле ярёмной вены, голубоватой нитью протекающей под бледной кожей. Хенг пахнет терпким гранатом и жасмином, что сейчас кажется спасительным глотком свежего воздуха на фоне сандалового дерева.
Горят плантации. И хорошо. Фэй ничего не отвечает. Ему думается, Хенг и так понимает, что он хочет избавиться от всех сомнительных ветвей триады, раз уж они объединяются под его началом. Ему не нужен мусор, сколько бы денег тот не приносил. Хенг продолжает, в этот раз коротко обернувшись. Неизвестно, рассчитывал ли он встретиться с Хань Фэем взглядом, но как только это происходит, Хенг отворачивается.
— Документы на Ванцзе готовы. Сам Ванцзе и господин Сяо уже выехали из отеля, скоро будут. Я… предупредил о предложении по поводу Сяо Чжаня, как вы и просили.
Хань Фэй чуть улыбается и кивает с благодарностью. К этому моменту Ванцзе уже должен был переварить эту мысль. Либо принять её, либо придумать альтернативный вариант.
Не хотелось омрачать первую встречу после разлуки ссорой.
Хань Фэй смотрит на статую Гуань-ди, когда шепчет себе под нос:
— Он вырос. Мне нравится то, что я в нём вижу.
Ли Хенг может сделать вид, что не расслышал, но тогда это был бы не он. Секретарь оборачивается снова, в этот раз даже делает шаг назад. Фэй ловит его взгляд. Ли вопросительно вскидывает бровь, мол, что именно?
— Мне нравится то, что он не похож на меня.
Хенг смотрит ещё пару секунд, затем кивает. Опустив взгляд, секретарь думает о чем-то своем. А затем, кратко глянув на божество войны в очередной раз, громко хлопает в ладоши, заставляя вздрогнуть всех сидящих.
— Молитвы окончены. Машины подъехали. Сегодня день отдыха. Ожидайте инструкции к вечеру.
Стройный хор голосов с «да, господин». Только после этого мужчины принимаются вставать, но завидев господина Ханя, а не только секретаря Ли, то комично застывают, то проползают мимо них в низком поклоне. Хань Фэя это забавляет, но виду он не подает. Больше его забавляет эта Катастрофа, которая потешается над новичками особо этого не скрывая.
— Быстрее, быстрее, очистите помещение. Душно, голова сейчас разболится…
— Простите, секретарь Ли…
— За что? За то, что надышали тут и благовония пожгли на месяц вперед?
— Простите, секретарь Ли, что…
— Бегите уже.
Когда они остаются вдвоем, дышать не становится легче. Только это уже никак не связано ни с сандалом, ни с тем, что в относительно небольшом помещении считай час сидело двадцать семь боровов и усиленно пыхтело в своих молитвах.
Хенг проходится пальцами по всей длине волос, чуть запрокинув голову, подходя к статуе Гуань Юй поближе. Фэй все еще стоит у стены, ему нравится вид обманчиво хрупкой фигуры секретаря перед массивной статуей. Хенг тянет вслух:
— Легенда гласит, что Гуань Юй был по-животному предан Лю Бэю. Мне бы хотелось узнать больше. Легенды приукрашивают, исторические эссе врут в зависимости от запроса. Где искать правду?
— Животная преданность возникает либо из долга, который завязан на понятии о высокой чести. Либо из любви. Какой вариант нравится секретарю Ли больше?
Хенг замирает, он хотел снова коснуться волос, но так и не довел движение до конца. С усмешкой и явным сомнением в глазах, он поворачивается к Хань Фэю, переспрашивая куда тише: «Любви? Господин Хань говорит о любви?».
Тот только усмехается. Оттолкнувшись от стены, он подходит ближе. Смотря на Гуань-ди, Фэй констатирует:
— Значит, секретарю Ли нравится больше про любовь. Что ж, я так и думал.
— Секретарю Ли нравится трахаться, господин Хань. Про любовь он ничего не знает.
Хань Фэй ничего не говорит, опускает взгляд, в сотый раз думая о том, какой у Ли Хенга симпатичный профиль. Хенг кривит губы, затем фырчит с очередным «любовь», достает из кармана тонкого пальто смартфон. Он говорит: «Ванцзе и господин Сяо приехали».
Хань Фэй кивает и разворачивается к выходу.
— Пойдем. Встретим их в саду.
— Да, господин Хань.
Хенг идёт за Хань Фэем, сохраняя дистанцию в два шага. Пока тот не останавливается намеренно, чтобы тот поравнялся с ним. Хенг думает, что это в равной степени пугает его и тешит самолюбие. Губительное сочетание. Но всё-таки.
Идти рядом куда лучше.
х х х
Залитый солнцем Шанхай лениво растянулся вдоль воды, заигрывая с небом бликами небоскребов, перекличкой клаксонов и рёвом речных судов. Утро растерзало сизые тучи, впуская свет, Шанхай сбросил промозглый озноб, и подставлял себя теплу со всех боков. Сяо Чжань смотрел на город с пассажирского сиденья ауди, взгляд фиксировал, словно камерой, удачные архитектурные ансамбли вперемешку с новаторским уродством нового века, добавлял в коллекцию очередные эскизы в стиле арт-деко. Всего двадцать минут назад Чжань оправдывался перед семьей за свое отсутствие на праздники: Чуньцзе, гроздьями драконьих голов, смотрел на каждого с любого угла, новый год наступал уже завтра. Первый, в жизни Сяо Чжаня, который он проведет вдали от Чунцина.
Если он задумчиво скажет об этом вслух, просто констатируя факт, то скорее всего услышит очередное «мне очень жаль, гэ». Чжань переводит взгляд на Ибо. Тот не рассматривает Шанхай, кажется, город ему досконально понятен, хоть взгляд также устремлен в окно. Ибо выдают пальцы — те прикованы ко рту, плененные механизмом вредной привычки. Чжань наблюдает за этим некоторое время. Он никогда не грыз ни ногти, ни заусенцы, ни кожицу вокруг ногтевых пластин. В свое время Сяо Чжань грыз карандаши. Но однажды сколов так себе часть зуба, хорошо, что хоть не одного из передних, Чжань решил, что привычке пора отвалиться.
— Нам надо купить вонючий тофу.
Ибо сначала утвердительно мычит, и только потом оборачивается с непониманием на лице. Чжань догадывается, что тот готов начать говорить нечто вроде «если ты такое любишь, гэ, то конечно». Но Сяо Чжань продолжает мысль:
— Я окуну твои пальцы в жижу или заставлю пошкрябать сам тофу. А может, стоит натереть твои пальцы порошком из корки дуриана, когда ты будешь спать.
Ван Ибо смотрит на него, не моргая, пытаясь сложить два и два, и только потом заторможено убирает руку от лица. Он усмехается краем рта, говорит «понял, гэ», пока ладони все трут по джинсам. Чжань забирает правую руку Ибо в заложники, переплетая пальцы и укладывая на своё бедро. В его ровном тоне звучит твердый приказ всего в одно слово: «Говори».
— Просто. Всё в порядке, гэ.
— Я уже сказал, что все нормально и я согласен на этот план.
— Да, но мы ещё не знаем, как он будет оформлен. И я повторю, что если ты будешь против, я найду способ, чтобы всё исправить…
— Да? Поможешь мне сбежать темной ночью, а затем будешь следить, как ниндзя, за моим благополучием?
— Ну, в принципе…
— Ван Ибо.
У Ибо нет другого варианта, кроме как поднять на Сяо Чжаня взгляд. Сейчас Ибо выглядит крайне несчастным, словно вся его былая уверенность улетучилась в миг. Очаровательное зрелище, но в той же мере и болезненное. Чжань чуть качает головой, свободной рукой тянется к волосам Ибо, поправляя темные пряди.
— Если ты переживаешь о том, что мне придется провести какое-то время в заточении, то, знаешь, я пережил несколько локдаунов при пандемии, не знаю, где был ты в тот период, но… было невесело. Да и хуже тюрьмы, в которой я жил всё это время, ничего быть не может. Возможно, мне это даже нужно. Ещё и бесплатно.
Ван Ибо ловит его взгляд. Смотрит внимательно, словно проверяя, затем кивает. Ибо сжимает пальцы в своих посильнее, смотрит на них, говорит задумчиво, явно что-то вспоминая:
— В пандемию я был одним из людей в белых комбинезонах. Стырил карточку у одного работника, тогда была большая неразбериха везде, было легко слиться… Сначала я думал, что это забавно, так что просто шатался везде, где хотел, у людей в таких костюмах были особые привилегии… потом стало не до смеха. Старался добывать продукты и оставлять под дверями в жилых комплексах. Всякое, по мелочи. Странно, но так и не болел особо. В плане, я часто простужаюсь, там… кашель, все такое, но тогда ни разу не заболел. Потом уехал подальше от городов.
Сяо Чжань пытается представить все это, но вопрос у него возникает всего один:
— С тобой всё это время вообще никого не было?
Ван Ибо пожимает плечами, отворачиваясь к окну. Он говорит: «Всё то время никто и не был нужен». Чжань не совсем понимает, как трактовать такой ответ. Машина встаёт на красный. Навигатор в динамиках уведомляет, что до места назначения осталось семь минут.
Поразительная органичность, с которой Сяо Чжань вписывался в новые условия жизни, не могла не вызвать подозрений. Ли Хенг изучает его свежим взглядом, когда архитектор не прикован к постели в больнице, и не является двухмерным изображением с камер наблюдения. Секретарь подмечает то, как держится господин Сяо, как догадывается поклониться Хань Фэю, и как совершенно не липнет к Ванцзе, не собираясь подчеркивать статус их отношений. Что же касается Ванцзи, тот смотрит на своего наставника и старшего брата несколько угрюмо, но смиренно. В этом угадывается что-то от досады и опасения, он наблюдает за тем, как Фэй реагирует на Сяо Чжаня так внимательно и напряженно, что даже у Хенга вдруг заныла шея. И да. Неловкое молчание после приветствий. Хань Фэй смотрит на Сяо Чжаня, тот старается быть вежливым, но растерянность слегка подкатывает к горлу в желании его прочистить. Чжань все-таки бросает осторожный взгляд, но вовсе не на Ванцзе, а на… секретаря Ли. Которого видит впервые, в общем-то.
Хенг, пойманный чужим беспокойством, нарушает тишину:
— Что ж. Для начала я предлагаю нам с господином Сяо пройти в малый храм, чтобы я ввёл в курс дела относительно его квартиры в Чунцине и деталей будущего контракта, да и по саду маленькая экскурсия не помешала бы. Думаю, господин Хань и юный господин пока… пока обсудят дела семьи. Вы согласны, господин Хань?
Господин Хань утвердительно мычит, но глаз с Сяо Чжаня так и не сводит. Это заставляет Ван Ибо встать перед ним, сказав на тон ниже «пойдем, да-гэ». Хань Фэй наконец-то «развисает» и даже слегка улыбается. Его ладонь поднимается, чтобы оказаться на макушке Ван Ибо. От этого движения и настолько привычной в прошлом ласки, Ибо сначала теряется. Смотрит удивленно, затем смущенно опускает взгляд, когда Хань Фэй ерошит его волосы, потом поглаживает, чтобы вроде как привести всё в порядок.
Хенг поджимает губы, когда голос Фэя неожиданно для всех припечатывает:
— А грозился интересоваться только женщинами. Сделать много маленьких Ванцзе, чтобы «заполонили всю планету». Сказать честно, когда твой архитектор валялся на больничной койке, я еще сомневался, казался хилым таким…
Хенг хочет сказать «о, небо», но вместо этого слышится только бубнеж Ван Ибо: «Спасибо, да-гэ, просто лучшее, лучшее, что только ты мог сказать сейчас». Сяо Чжань снова смотрит на секретаря Ли, призыв о помощи сменился легким ужасом, и попыткой сдержать смех. Секретарь, уже без лишних слов, просто тянет архитектора за локоть.
— Мы пошли к малому храму!
Ли Хенг утягивает Сяо Чжаня за собой, пока Хань Фэй уже вовсю не просто ерошит волосы Ван Ибо, а берет того в захват, заставляя отбиваться и грозиться «снести да-гэ яйца за такой позор». Господин Хань только низко посмеивается. Ван Ибо даже не осознает, что он единственный человек во всем мире, кто может ляпнуть такое и остаться в живых. В Сяо Чжане эта картинка вызывает смешанные чувства. Вроде и радость от воссоединения близких людей, а вроде… он не может избавиться от внутреннего осуждения. Не зная деталей, он все равно не понимает, как можно было оставить ещё ребенка совсем одного. Без никого и ничего. Даже если тебя скрутили и посадили. Ещё и сказать избегать всех служб. Чжаню почему-то казалось, что жизнь в приюте в чем-то была бы лучше, чем все те скитания, которые пережил Ибо. Но он имеет обо всем этом туманное представление, и признает это.
Хенг оборачивается всего лишь раз. Такой смех от Хань Фэя он ещё не слышал. Были пьяные вариации, когда они пили финскую водку. Были какие-то фырканья и что-то от умиления. Но сейчас — простой, искренний смех, на фоне звуков негодования от Ванцзе. От этого почему-то тепло. Может, господин Хань теперь станет чуть мягче в личном, и более жестким в глобальном. Нельзя не видеть, как сильно ему дорог Ванцзе.
х х х
Садов посреди Шанхая немало. Многие из них имеют историческое значение, некоторые — недавние подарки от меценатов или открытые к памятным датам скверы.
Этот сад не имеет к ним никакого отношения. Построенный в лучших традициях даосизма и конфуцианства, он скрытно существует между каменных зданий с давних времен. Этот сад был здесь, когда Шанхай, совсем незрелый и простой, являлся рыбацкой деревенькой. Пышные и вечнозеленые лавры, камелии, остролисты и дубы разрослись могучими кронами, охраняя небольшие пагоды, подбадривая своим величием вишневые и сливовые деревья. В каждой из них стояли алтари божествам или мифическим существам. Дорожки извилистые, вымощенные глыбами розоватого гранита, заставляют идти от одной части сада к другой куда дольше. Пару шагов по земле этого места, и ты уже не слышишь гул бесконечного мегаполиса, всё, что казалось тебе важным, отступает, словно волна сходит с песчаного берега, заставляя обратить внимание на то, что действительно ценно. Сад дарит странное чувство покоя. Странное, только потому что покой — редкий гость в душах людей. И тем более странным кажется говорить в таком месте о таких вещах, как контракты, квартиры, деньги…
— … окна затянули плёнкой, в целом, скоро заменят. Если вы хотели бы какие-то определенные вещи из вашей квартиры, набросайте мне список. Все необходимые контакты уже вбиты в ваш новый телефон, вы получите его к полудню. Обсуждение контракта перенесено на послезавтра, так что у вас много времени, чтобы изучить его во всех деталях и выбрать лучшие опции. Там так же прикреплен договор, нас интересует ваш бизнес и связи в целом, мы хотели бы помочь и сотрудничать, изучите тоже. Вам стоит…
— Как называется это растение? Этот куст?
Ли Хенг оборачивается. Оказывается, он уже как шагов семь шел один, рассказывая воздуху детали новой жизни господина Сяо. Тот стоял, наклонившись к кусту, и нескрываемой нежностью ощупывал мелкий зеленый листочек… Хенг невольно задумался о каком-то побочном эффекте после лечения, может, тот транк так и не выветрился. Подойдя ближе, Хенг поймал на себе вопрошающий взгляд и полные любопытства глаза. Ну, не то чтобы Ли Хенг был садоводом, но шиповник узнать может.
— Дикая роза. Шиповник. Аккуратнее, там есть мелкие шипы.
— Да-да, я вижу…
Сяо Чжань выпрямляется, но продолжает рассматривать куст. Затем смотрит куда-то за него, поворачивает голову в ту сторону, откуда они пришли. Его голос уже не кажется теплым от любопытства, скорее почему-то грустным, когда он спрашивает:
— Что это за место?
Ли Хенг понимает, что наверное начал не с того. Он говорит «пройдемте дальше, я расскажу», дожидаясь кивка архитектора. Они продолжают свою прогулку до малого храма. Хенг думает, как озвучить всё верным образом, но легенда есть легенда.
— Считается, что этот сад разбил один полководец, когда пожертвовал своим войском ради жизни императорской семьи, он и его люди бились до последнего и смогли защитить их, но слишком большой ценой. После этого полководец хотел свести счёты с жизнью, не в силах нести дальше это бремя. Некоторые утверждают, что дело было не столько в том, какое количество людей полководец положил за императора, это не что-то нечестивое, а то, что среди этих людей был кто-то слишком важный его сердцу. Важнее императора, раз он чувствовал такое несоразмеримое с долгом горе. Император запретил ему себя убивать, но так как тот требовал хоть какого-то наказания… изгнал его. Тогда он дошел до этих мест. Шанхай не был Шанхаем на тот момент. А полководца считали даосом или что-то вроде… он разбил этот сад в память тех, кого потерял. Умер в глубокой старости, почитаемый всей деревней, там уже… разные байки есть. Сад у деревни выкупила семья Ма, затем эта же семья выбила себе уникальные права на него даже во времена расцвета коммунизма, он чудом сохранился. В действительности, война его почти не тронула, но вот культурная революция покоцала пару пагод и снесла две статуи, к сожалению. Семья Ма охраняла и охраняет этот сад из поколения в поколение, что бы ни случилось с самим Китаем. Здесь… богам воздают почести приближенные к Ма семьи.
Хенг не замечает, как за неспешным рассказом, они уже доходят до одной из пагод. Это не являлось малым храмом, куда изначально стремился секретарь. Дорожка вывела их чуть южнее того, куда следовало бы. В этой пагоде нет двери, её заменяет арка с бордюром зеленой плитки. Она выглядит проще остальных, да и божество в нём не самое суровое или властное. Вернее сказать, диаметрально тому противоположное. Статуя небольшого кролика высеченная из белого мрамора. Блюдце с воткнутой в прорезь сандаловой палочкой. Да и всё. Это — алтарь Ху Тяньбао. Духу-кролику, но вовсе не тому, в чью честь готовят лунные пряники. Хенг останавливается, но Сяо Чжань уже завидел статую:
— Это кролик?
— Мы нанимаем вас как архитектора. И пока вы доводите до ума все проекты, вы должны будете решить, какое место будете занимать в семье. Какие бы отношения с Ванцзе вас не связывали, я не советую брать это за основу, ведь кто знает, как пойдет дальше. Из триады, а надеюсь, вы уже поняли, где оказались, есть только один выход. Так что вы либо просто партнер Ван Ибо для секса на какой-то срок, сколько бы ваши отношения не длились, а потом будете торчать в подобном месте до конца дней, либо становитесь полезны.
Хенг не хотел звучать резко, но этот алтарь сбил его с толку. Он заставляет Сяо Чжаня развернуться, снова тянет его за локоть обратно на тропу. Он знал, что в саду есть эта пагода для молитв о… однополой любви, но никогда прежде не доходил до неё.
Сяо Чжань мягко избавляет свою руку от захвата и спокойно говорит:
— Вы сами сказали, что вас интересует мой бизнес и связи. Безусловно, я хочу стать полезным.
Хенг чуть морщится, встречаясь взглядом с Сяо Чжанем. Что-то всё равно не даёт ему покоя во всём этом цирке. Он лично видел кадры с камер наблюдения моста Чунцина, он видел, как Сяо Чжань остановил машину, как подошел к Ванцзе, которому вздумалось танцевать на краю с ветром в тот поздний вечер. Ли Хенг не верит в случайности или судьбу, но… он не смог найти ничего подстроенного в том моменте. Отследив все передвижения Сяо Чжаня за день по камерам. То, как он уже почти выехал на мост в первый раз, но зачем-то развернулся, когда оставалась последняя возможность. Как оказалось — ради тарелки лапши. Как потом ехал окольными путями, избегая тянучек, и наконец-то выехал на мост вновь. Ли Хенг составил целый фильм, который легко можно было бы назвать артхаусом и всунуть на какой-нибудь хипстерский фестиваль, правда, в нём все же был сюжет. Сяо Чжань стащил патлатого пацана с моста и увёз к себе домой. Но ничто в этот день и в день до этого, да всю жизнь… разве что.
— Вы сняли Ванцзе с моста в тот вечер из чувства вины перед бывшим?
Сяо Чжань склоняет голову набок, рассматривая секретаря Ли. Тот неожиданно понимает, что всё-таки ниже архитектора. Почти что так же, как он ниже Хань Фэя. Нет, ну это уже начинает раздражать. Они стоят всё еще недалеко от пагоды с Ху Тяньбао. Над ними раскинулось небывалых размеров лавровое дерево. Странно думать, что оно бывает настолько большим. Его вытянутые листья, напитавшись влагой за прошедшие дожди, мерно шелестят, обласканные прохладным пассом ветра.
— Я снял Ван Ибо с моста, потому что любой нормальный человек в моем понимании должен был это сделать. Я просто оказался им в тот вечер. Нормальных людей мало, секретарь Ли, настолько, что они кажутся другим безумцами. Но меня уже несколько беспокоит, как много людей знают о моей личной жизни даже то, что не знал о ней я сам.
Допустим. Ли Хенг все ещё изучает лицо Сяо Чжаня. Подмечает сетку лопнувших сосудов за стеклом очков. Едва заметный порез после бритья, видимо, всему виной одноразовый набор из номера отеля. Неужели и правда, просто уставший мужчина, который вот так вот влип и не хочет выбираться? Хоть уже и поздно.
— Вы в полной мере осознаете, что происходит с вашей жизнью сейчас? Ванцзе — наследник семьи Хань. Которая теперь — глава триады. Охрана, что будет оберегать вас, способна не просто убивать. В команде есть человек по прозвищу Медведь. Он японец. Когда-то он попал в семью, потому что впечатлил тогдашнего главу тем, что выдавил оппоненту глаза пальцами.
— Спасибо за информацию, буду стараться не упоминать глазные яблоки в его присутствии…
— Вам смешно?
— Вы хотите напугать меня, секретарь Ли? Хоть говорите, что пути назад особо уже и нет.
— Я пытаюсь вас понять. Если я чего-то не понимаю, это потенциально может нести угрозу семье.
Сяо Чжань смотрит Ли Хенгу в глаза долю секунды, затем кивает, отворачиваясь. Ветер стих, вместе с ним и лавр. Сяо Чжань поправляет очки, затем прячет руки в карманы ветровки. Та, кажется, ему велика, видимо покупалась без его участия.
Сяо Чжань запрокидывает голову и рассматривает уже небо, когда говорит:
— Я в полной мере понимаю, что происходит, секретарь Ли. А что касается того, почему я на всё это согласен и я не очень-то возмущаюсь или не в ужасе… ну, я знаю о вещах похуже и жил в аду до определенного момента. Ну, может, в чистилище, буду менее драматичным. Может быть как раз до того, как стащил Ван Ибо с моста. Хоть, справедливости ради, он сам слез. Мне страшно было даже попытаться втащить его обратно, вдруг… мне бы не хватило сил. Мне не кажется, что его вообще можно заставить что-то сделать, если он не хочет сам. И то, что происходит сейчас, имеет для меня больше смысла, чем вся моя жизнь до этого, секретарь Ли. Вам знакомо это чувство?
Сяо Чжань опускает голову и спокойно смотрит на Хенга. Знакомо ли ему это чувство?
Телефон вибрирует в кармане пальто. Секретарь Ли сбрасывает с себя этот вопрос, словно выйдя из оцепенения, берёт трубку.
— Да. Мы немного заблудились, да, сейчас. К воротам? Хорошо, господин Хань.
Хочется курить. Секретарь Ли убирает телефон, нащупывает в другом кармане пачку сигарет и кивает Сяо Чжаню на побочную дорожку. Та из гравия, куда уже той, что вымощена гранитом.
— Так будет быстрее. Нас уже ждут. Семья едет завтракать.
— Звучит душевно. Мы и правда не очень плотно поели перед выходом, с утра редко хочется, но зато теперь…
Хенг неопределенно хмыкает, вытаскивая смятую пачку из кармана. Сяо Чжань бросает на нее короткий взгляд, затем спрашивает едва слышно: «Серьезно? Будете курить в этом саду?».
Хенг пожимает плечами, щелкая зажигалкой на ходу, уже зажевав фильтр.
Выдохнув первую порцию дыма, он шепчет так же тихо:
— Поверьте, курение — мой самый мелкий грешок из всех, что я творил в этом саду.
Сяо Чжань не ужасается и не осуждает. Он почему-то смеётся.
14. 春节即农历新年
х х х
XIV.
跟一个不存在的东西战斗,恰恰是让这个东西存在起来的过程
Борьба с тем, чего не существует, способствует созданию этой вещи.
Месть — это про баланс и возвращение к пустоте. Кажется, что эта трясина, которая лишь затянет глубже, что одно насилие будет влечь за собой другое, но это только если жребий попал в слабовольные руки. В те руки, что не смогут довести её до конца. А конец любой мести — ничто. Полное ничто. Пепел поверх выжженой земли. Ты мстишь, потом мстят тебе? Нет. Ты мстишь. И всё заканчивается. Вот условие идеального возмездия.
Оно редко кому удаётся. Редко кто способен его выдержать. Редко кто способен рассказать о нём. Редко кто остаётся в живых после. Не потому что его настигает смерть, а потому что он сам приглашает её к себе. Освобождаясь.
Дело сделано, теперь та пустота, что была во мне, сталa пустотой вокруг.
И пусть уже кто-то другой строит в ней новый мир.
Такие люди уходят, чтобы прийти к тем, кто их покинул. Таков был план. Его четкие линии выстраивались в структуры, которых нужно было лишь коснуться и внести в реальность. Терпеливо, постепенно. Наслаждаясь каждым дюймом воплощенного.
В этом был смысл следовать за Катастрофой, ведомой той же целью. Иначе прах госпожи Ма не стоял бы на полке, а сам адвокат-секретарь не рвал жилы, выискивая каждого и каждую, кто остался от семьи. Кто выжил и жаждал того же.
В этом был смысл пустить смерть по кругу за обеденным столом. В этом был смысл для продолжения и долгой игры. Долгой игры на уничтожение. На этом Хань Фэй и держался. Но сейчас… где-то глубоко, куда не заглянуть и не достать, едва заметно тлело нечто другое. Покрытое слоем запекшейся крови, намеренно забытое, а от того всё ещё зудящее на кромке сознания. Это нечто, что заставляет наблюдать, с ленцой потягивая шерри. Это нечто, что заставляет рассматривать не один сценарий. Нечто, что есть в глазах Ванцзе, когда он смотрит на архитектора. И не дай Небо, что оно же есть и во взгляде Хань Фэя, когда тот смотрит на кое-кого другого.
Отвлекающий маневр судьбы, её хитрое испытание или шанс на свет? Все эти банальные вещи, от которых он давно отвернулся. Картонные и бумажные фигурки, что так просто горят. Хань Фэй не знает. Пока что он просто пьёт.
Дракон набирается сил, чтобы чуть погодя выдохнуть пламя в небо, знаменуя начало нового года.
х х х
Шанхай гордится своим особым способом праздновать Чуньцзе.
На первый взгляд, его и нет. Город ощутимо пустеет, многие, кто использует Шанхай как место беспрерывной борьбы за материальные блага, уезжают к семьям. Подальше от зноя на контрасте с промозглостью, шума и неона, подальше от замысловатых зданий, небоскребов, однотипных трущоб, торговых центров и рынков. Даже те, кто давно осели семьями в самом Шанхае, стараются из него сбежать, потянувшись к природе.
Это потому что они все-таки чужаки. Истинные шанхайцы остаются в своём городе. Они не голосят, не пускаются в пляски, изредка любуются бумажными фонарями по улицам, еще реже их запускают, стремятся в свои комфортные ульи. Чуньцзе для шанхайцев — время тишины, пива и легкого осуждения всех, кто не они. Злые языки утверждают, что причина скрывается в потрёпанном прошлом. Шанхайцы всегда держались особняком, словно законсервировав в себе обиду на остальной Китай. Кто разберёт, с чего так? То, что шанхайцы не балуются с петардами, кривят усмешки, переключая гала-концерты в поисках какого-нибудь фильма, и заменяют выпечкой традицию лепить цзяоцзы — всё это словно насмешка, попытка уличить остальных в лицемерии. Праздник весны. Когда внутри только лёд. Пить холодное пиво, не отрицая этого, наслаждаться тишиной, в которой нет вранья. Шанхайцы — это про честность. В это они хотят верить.
Или настолько привыкли быть не такими как все.
Шанхай не пугают ледяные сердца его людей. Шанхай старается побаловать их теплом.
Кусочки курицы, обжигающе горячие и хрустящие, были погребены под горой обжаренного чили. Тот был везде. Из него делали ароматный соус для утиной печени, вливали лавой в бутыльки, чтобы сбрызнуть рыбу, смешивали с приправами для рубленной свинины. Красный, зеленый, свежий, сушеный, молотый, маринованный и выдержанный в золоте кунжутного масла — разнообразию чили на этой кухне не было предела.
Шеф-повару Чжоу сказали, что кроме секретаря Ли, в компании Старшего брата и молодого господина, будет и некто важный. Некто из Чунцина.
Никаких подробностей узнать не удалось, кроме того, что эта важность основана на личном отношении. На кухне шли споры кого именно: самого Старшего брата или его юного протеже? Кто этот гость из Чунцина? Новый глава какой-то из семей? Крайнее возбуждение, что охватило каждого на этой кухне, словно заразный вирус эйфории, заставляло движения быть более резвыми, ритм кухни несся вперед, но не терял чёткости.
Гости засядут тут с обеда до позднего вечера, решая семейные дела и формально празднуя Чуньцзе. К четырём часам ожидаются и другие члены клана Хань. В это было страшно поверить. Правда была слишком сладкой. Наверное, её осознание придёт позже, а сейчас то помешает процессу.
Шеф Чжоу подготовил меню с ночи и пока всё шло гладко. Два хот-пота для глав и их “личных людей”, бесконечные мясные и овощные блюда для остальных, вскрытые глиняные сосуды с крепленым вином и прозрачные бутылки огненной водки. Ему давно не приходилось накрывать такой пир, по правде, он не думал, что эта традиция вернётся в его быт. Пять или шесть лет назад всё закончилось. Его ресторанчик, скрытый в укромных дворах Французского квартала, потерял своих основных клиентов. Больше никто не засиживался до рассвета за маджонгом, коптя потолок премиальными сигаретами. Никто не заключал сделки, в задумчивости потирая дулом холостого магнума виски и макушки. Эта привычка людей Хань так небрежно относиться к оружию, которое походило скорее на продолжение их рук, всегда особенно впечатляло шефа. Люди Хань носили смерть с собой в кармане. Она была их ручным питомцем, вот, как это чувствовалось. Тем более странным было услышать, что все они погибли. “Клан вырезали и выпалили, от Шанхая до Чэнду, а оттуда до Пекина, Лояна и Нанкина, Юй! Стигийские под крылом КПК! Эти твари!”.
Чжоу тогда не поверил. Вслух сказал другое. В его ресторанчик стали ходить пожилые пары и семьи. Меню урезалось в два раза, как и бюджет. Шеф думал, что постепенно, храня память о тех, кому был предан, он уйдет и сам. Как дряхлело его тело, так и истончались стены с крышей его “Золотого дракона”. Никто не протирал пыль с низких плафонов, никто не покрывал новым слоем черного лака столы, стулья подбивались, а не выбрасывались ради покупки новых. Платан во дворе разрастался всё шире, опускаясь ветвями ближе к земле.
Чжоу хотел оставить ресторан таким, каким он был в ту минуту, когда новость о гибели всего клана достигла его слуха, а затем заставила почернеть и сердце. Времена наступали тёмные.
Но всего пару недель назад колокольчик над дверью зазвонил мелодичной трелью, затем шеф Чжоу услышал стук. Три касания костяшек подряд, затем пауза, и ещё два. Ему подумалось, что это насмешка памяти. Но нет. Спустя годы, порог перешагнул некогда мальчишка, что так любил добавить перца в горячий английский шоколад. Чжоу Юй подавал его с одной ложкой взбитых сливок сверху, слушая, как юный веер щебечет то на английском, то на кантонском, как прошел его день. Чжоу думал, что и он убит. Не верил, но думал. Вспоминал, как видел его в последний раз. Он приходил с госпожой, высокий и статный, уже совсем взрослый. Пять или шесть лет назад. Как и всегда.
Один раз в две недели. Они сидели за столиком у окна и Чжоу, возможно, единственный в их жизнях, наблюдал такие простые и важные жесты: рука матери касается щеки сына, тот добавляет больше мяса в тарелку матери из своей и подливает ей чай. В зале никого, кроме них, и Чжоу, который брал в такие визиты роль официанта на себя, стоит у двери кухни на случай, если что-то понадобится. Никто не должен был знать о их близости. Никто не должен был понимать, какую игру они ведут.
Но эту слабость они себе позволяли: молчаливые обеды в дождливые шанхайские дни.
Оказалось, все предосторожности госпожи были оправданы.
Если кто и знал о малыше Ли, как сам Чжоу, то не предполагал, что он являет собой ценность и уж тем более считается человеком Хань. Шавка, бастард и слуга.
Пару недель назад он принёс с собой толстую плитку шоколада.
И банку сычуаньского перца.
Некогда малыш Ли сказал, что раньше прийти не мог. Многие знали, что это место — не просто ресторан, а сам он не должен был иметь ни к нему, ни к его постоянным клиентам, никакого отношения. Чжоу Юй растерялся в первые секунды. Нелепые “живой”, “так вырос”, и “опять он с перцем”, пронеслись в голове.
А затем шеф обнял явно уставшего мужчину, порывисто и крепко.
В этот момент он понял, что люди Хань живее всех живых. А значит, ресторан снова станет их домом.
Чжоу Юй обтёр руки о полотенце, краем уха слушая шепотки и смешки своих работничков в процессе нарезки овощей. Почесав седую бородку, а затем и щеку, он немного добавил силы в голос, возвращая всех к порядку: “Обсудите красоту господ на перекуре, сосредоточьтесь на утке и говяжей требухе”.
— Да, шеф!
Шеф Чжоу Юй вынырнул из воспоминаний, более осознанно проходясь взглядом по кухне. На ней давно не было такого движения, людей, по правде, не хватало. Но они справлялись. Мысли снова коснулись загадочного гостя из Чунцина. Деталей мало, но то место, откуда гость родом, означало лишь одно: еда должна быть острой.
х х х
Длинные палочки погружаются в наваристый бульон. В приглушенном свете он походит на бурлящую кровь. Хенг крепко удерживает кусок свинины, слушая хриплый голос господина Ханя. Он не рискует на него смотреть. В настоящей крови, что сейчас, по ощущениям, слишком медленно и тягуче ползет по руслам вен, много алкоголя.
И станет ещё больше. Сегодня Хенг ни в чем себе не откажет. Праздник. Праздник весны. Буйство жизни. Хань Фэй ставит граненный стакан с крепленным вином на стол. Хенг вытягивает мясо из бульона. От него идет пар. На самом лоскуте, некогда нежно-розовом, сейчас обилие зерён перца и семян кунжута. Хенг ловит взгляд главы, и, не отводя глаз, сует мясо в рот. Губы немеют. В первые секунды кажется, что рот охватил арктический холод, но затем наступает жар. Невыносимый жар, кажется, он заставляет язык распухнуть, в глотку словно льётся поток разъедающей кислоты. Хенг облизывает губы, даже не зажмурившись и все ещё смотря на главу. Тот заканчивает мысль:
— Так мы используем траффик, что традиционно был для опиума. Но теперь для другого продукта. Наркобизнес — устаревшая модель.
Хенг кивает. Это всё, на что его хватает. Он знает, что Хань Фэй выпил уже четыре стакана, но, судя по всему, эффекта алкоголь в его теле не достиг. Секретарь плохо помнит, когда именно в прошлую попойку финской водке удалось развести Хань Фэя на эмоции, выудив того из титанового панциря, но то всё-таки водка. Хенг снова обращается палочками к раскладке мяса и рыбы. В этот раз он цепляет тонкий и длинный ломоть говядины. Во всём ресторанчике занято лишь два столика. Этот у окна, и тот, что ближе к середине зала. За ним юный господин в сотый раз за вечер укладывает кусочки курицы в тарелку архитектора. Хенг даже подумывал начать играть с самим собой: пить каждый раз, когда господин Сяо закатывает глаза. Остальная часть семьи заняла обширную террасу. Честь праздновать Чуньцзе подле главы получили лишь избранные. Те, что выжили в бойне прошлого и сумели спрятать себя настолько надежно, чтобы оказаться сейчас тут. Доказавшие свою преданность. Временами кто-то осмеливался подходить к ним, чтобы продемонстрировать почтение лично. Хань Фэй выслушивал, в знак благодарности — предлагал выпить с ним стопку. Для этого случая на столе стояла особая бутылка «нефритовой воды». Жуткое пойло высокого градуса. Таких стопок, к тем четырем стаканам вина, Фэй выпил уже пять. Хенг начал подозревать, что перед праздником глава закинулся сорбентами. Умно.
Почему он сам не догадался?
Секретарь Ли так крепко задумался, что в какой-то момент его руки касается глава. Тянет за кисть, говоря: «Твое мясо уже давно готово». Кусок говядины не достигает ни одного из ртов, он шмякается на стол, левее тарелки. Хенг просто цепляет его палочками заново и сует в рот, словно прячет. Обжигает до легкой испарины по лбу, горчит, а затем становится сладким.
Хенг пережевывает, совершенно некультурно машет палочками, выводя ими то ли иероглиф, то ли фигуру с ломаными углами, подбирая слова.
Наклоняется к Фэю ближе и шепчет:
— Наверное, нам вообще не стоило пить, да? Кто-то может подъехать… раньше у триады были правила и кодекс чести… м-м. А сейчас…
— Если ты всегда с таким запозданием думаешь, прежде чем делать, то это многое объясняет.
Хенг фокусируется на лице господина Ханя. То выглядит спокойным, но его глаза… он точно издевается. Секретрь пихает Фэя куда-то в грудь свободной рукой. По-хорошему, он должен сидеть на террасе с остальными. Во главе, но с остальными. По-хорошему, там же должен быть и архитектор, но такой расклад кажется фантастикой: Ван Ибо приклеился к нему намертво. Хенг зависает, наблюдая, как Сяо Чжань наклоняется вперед, чтобы стянуть с палочек Ванцзе то ли кусочек мяса, то ли все-таки корень лотоса. Любой вариант, после тщательной варки в бульоне, становится одинаковым. Кроваво-красным, лоснящимся от масла и жира. Хенг опускает взгляд. Есть всё-таки второй бульон, не такой острый и жирный. Именно в него Хань Фэй изредка окунает нежную телятину или продолговатые кусочки утиного мяса. Хенг берётся палочками за последнее и опускает в молочно-белую жидкость, кипящую не так активно. В пенистой белой массе угадываются кусочки зелени и грибов, семена кардамона и короткие стручки перца чили.
Секретарь замечает очередным шепотом:
— Интересно, будут ли они такими же безмятежными, когда откроют контракт…
Хенг держит палочки в бульоне, отсчитывая секунды. Хань Фэй никак не комментирует его слова. И совсем не удивляется, когда утиное мясо появляется перед его губами. Хенг смотрит на него внимательно, словно от того, откроет ли глава рот, что-то зависит. Хань Фэй медлит, но только ради того, чтобы подразнить. Хенг почти что теряет терпение, палочки начинают движение и именно этот момент Фэй выбирает, чтобы стянуть мясо. Хенг прячет самодовольную улыбку в выпике — сам он баловался пивом.
В нехилом количестве. Хенг ловит себя на горькой мысли — некогда одна из самых крупных организаций, сейчас они едва ли могут заполнить собой такой ресторанчик. Новички пока не считаются. Они ещё не члены семьи. И всё равно, их тоже мало. А врагов меньше не стало.
Хенг чувствует тепло чужой ладони между своих лопаток. Она берёт левее, скользит выше, сжимает ближе к шее. Хенга прошивает жаром, но в этот раз вовсе не от остроты мяса. Надо выбрать ещё кусок, надо выпить ещё, и ещё, и ещё… Хенг цепляет расхлябанную шляпку шиитаки. Хань Фэй наклоняется к его уху, хватка его пальцев стала сильнее:
— У меня есть одна проблема, секретарь Ли.
Секретарь Ли весь во внимании, правда, очень занят грибной шляпкой. Её удерживать почему-то тяжелее, чем мясо. Может быть дело в том, что губы Хань Фэя совсем немного коснулись его уха. Совершенно случайно, его выдох обжигает кожу шеи.
И лишь потом доходит смысл:
— Мне нужно расслабиться. Не подскажешь как?
Это очень плохая идея. Настолько плохая, что аж дурно. Хенг не может продаться так просто, верно? Он поворачивается и сует шиитаки под чужие губы. Хань Фэй слегка прищуривается, отстраняясь, но его рука уже свободно перетекла к шее, массируя мягко, но с силой. Из-за этого Хенг ощущает мурашки по телу. Шиитаки отправляется обратно в бульон. Секретарь откладывает палочки. Его голос должен звучать ровно. Ему, во всяком случае кажется, что дела обстоят именно так. Нужно трезветь.
— Конечно, господин Хань. Для остальных ребят, особенно боевиков, я уже заказал… партию, их ждут в отеле после ужина. Для вас могу подобрать отдельно. Особые предпочтения?
Хенг снова берется за палочки, понимая, что руки лучше чем-то занять и поднимать взгляд на господина Ханя не стоит. Он деловито перебирает куски курятины и свинины, чуть ли не меняя их местами. Затем тянется к пиву. Рука Хань Фэя оставляет шею в покое, но от этого не легче. Потому что ладонь медленно опускается всё ниже. Она уже не кажется тёплой.
Она ощущается горячей. Застывает на пояснице. Хенг наклоняется ближе к столу, словно пытаясь понять, стоит ли кусок того, чтобы его съесть. На деле это лишь позволяет Хань Фэю оценить способность Хенга к прогибу. Специально? Чёрт знает.
— М-м… ниже меня, но не слишком. Длинные волосы. Чтобы я мог намотать на кулак. Достаточная гибкость и выносливость. В тюрьме было не с кем так развлекаться.
— Разве долгое воздержание не ведёт к тому, что первый раз после перерыва несколько скоротечный?
Хенг задаёт этот вопрос невинным тоном, поворачиваясь к Хань Фэю. Он так и не выбрал, что сунуть в бульон следующим. Пальцы Хань Фэя принимаются спокойно вытаскивать рубашку Хенга из брюк со спины. Тот не двигается. Глава продолжает:
— Волосы тёмно-рыжие, выкрашенные. И чтобы бледный. Люблю видеть плоды своих трудов на коже.
Только в этот момент до Хенга доходит, что он ошибался. Алкоголь в господине Хане всё-таки плескался и делал свою работу. Воспользоваться ли этим, учитывая, что он вовсе не против? Это даст ему дополнительных очков? Хенг всё-таки умудряется состроить удивление.
— Собрав все слухи и историю ваших похождений, вам нравились хоть и бледные, но грудастые. Женщины. А среди мужчин было и немало…
— Вы верите всем слухам, секретарь Ли? О вас тоже немало ходит. Грязных. Они мне не нравятся, кстати.
— Слухи обо мне? Большая часть из них — правда. Вам какой нравится больше остальных?
Хань Фэй как-то странно улыбается. В этом нет ничего от удовлетворения или усмешки. Хенг действительно тормозит, потому что это не улыбка. На губах Хань Фэя скорее мелькнул оскал. Ему не хватило времени оформиться, потому что Хенга прижали к себе слишком резко и крепко. Ладонь под рубашкой обжигает кожу, стремясь ниже. Другая оказалась на шее, не сжимая, но удерживая, заставляя Хенга вскинуть голову. Довёл-таки. И почему от этого так хорошо?
Хань Фэй отвечает, понижая голос:
— Мне нравится тот, в котором будут говорить, что секретарь Ли — принадлежит главе Хань. И на этом слухи закончатся.
Ли Хенг улыбается. Всё самое темное в нем довольно урчит. Его демонов явно приласкали. Он не помнит, куда делись палочки. Если бы перед ним был не господин Хань, возможно он бы использовал их, чтобы воткнуть в глаз или аккурат под челюсть. Хенг любил трахаться, но это не значит, что он любит такое обращение. Во всяком случае, до постели. Вместо этого его холодные пальцы проходятся по щеке Фэя, трут по щетине. Хочется устроиться на его коленях. На этой мысли посещает и другая. Они всё-таки не совсем одни в зале. Хенг предпринимает попытку посмотреть правее, затем ойкает — Фэй тянет его к себе куда требовательнее, заставляя действительно устроиться на бедрах.
— Они уже давно сбежали, секретарь Ли.
— Что?
— Расслабься. Их бы ничто не удержало. Потому к ним и приставлена охрана.
Хенг всё-таки оборачивается. Зал и правда пуст. Двери, ведущие на террасу, тоже закрыты. Из динамиков приглушенно льётся трансляция весеннего гала-концерта, она прерывается на очередную рекламу пива. Шум улицы едва ли просачивается внутрь.
Хань Фэй стягивает с его волос заколку, вместе с ней слезает и резинка.
У секретаря не такой уж большой выбор. Он усмехается и наклоняется ближе к губам главы:
— Если мои волосы испачкаются в бульоне, господин Хань…
— Тогда нам стоит разложить тебя на столе без сервировки. А лучше отнести тебя в постель. Согласен?
Хенг усмехается на такое заявление. Когда Хань Фэй целует его, во рту обжигающе остро. Губы немеют.
Но это не повод останавливаться.
х х х
Платаны — древние деревья. Их массивные тела пускают корни глубоко, удерживая землю.
Их могучие, развесистые кроны стремятся стать опорой воздуха.
Измазанная серебром кора, напоминающая сталь мечей прошлого, исправно хранит свои тайны. Одну из них пытается найти Ван Ибо, утягивая Сяо Чжаня за собой, ведя по лабиринту давно забытых троп ко внутреннему двору ресторана “Золотой дракон”.
Воспоминание, побудившее его на такое приключение, выбило к берегу сознания благодаря алкоголю. Почему-то в этот раз тот пился приятнее и легче, чем когда бы то ни было. Ван Ибо подозревает, что пьянил его не только вкус белого вина. Всему виной глаза напротив. Затянутые поволокой, такие же манковые и бесстыдные, такие же знакомые, какими показались на том мосту. Сейчас кажется, будто бы это было в далеком прошлом. И ледяной ветер, и желание соскользнуть вниз, если такова судьба. Может, он и соскользнул, а всё это — подарок Небес другой жизни, в которой он успел переродиться? Точно такая же жизнь, с таким же выбором, кроме того, последнего. Постоять еще немножко. Чтобы Сяо Чжань успел подъехать. Чего только не взбредет в пьяную голову.
Ладонь Сяо Чжаня сухая и теплая, его пальцы так естественно сплетаются с собственными. Они заворачивают за очередной угол. Лабиринт из песчаника сужается, по обе стороны стен низко висят красные, бумажные фонари. Раздутые, словно от тепла, но внутри них уже давно обычные лампы. Черные жгуты проводов соединяют один фонарь с другим. На красной бумаге отпечатали пожелание счастья, богатства и скорой весны.
— Ты точно знаешь, куда мы идем?
Голос Сяо Чжаня слегка насмешливый, он просто следует за Ибо, и по правде, ему безразлична конечная цель. Если запрокинуть голову, можно увидеть небо. Темное, расшитое спутниками, которые прикидываются звёздами, с мелкими алыми точками, что медленно плывут по заданной траектории. Наверное, самолёты?
Сяо Чжань пытается представить, как выглядит Шанхай с такой высоты. Ему не удалось насладиться таким видом, а в те пару раз, когда он сам летал в этот город, он предпочитал спать большую часть перелёта. Его всегда ждал насыщенный делами день, и мысль насладиться видом… когда он перестал так делать? Наслаждаться видом простых и сложных вещей? Не анализировать, не ставить заметки, не вычислять стиль, не высчитывать площадь, не приходить к какому-то выводу. Просто смотреть. Когда-то ведь он умел это.
Вскоре коридор заканчивается, они выходят во двор. На самом деле до него можно было пройти через подсобные помещения “Золотого дракона”, который был куда больше, чем кажется на первый взгляд. Ван Ибо помнил, как будучи здесь всего единожды, заплутал. Он хотел найти туалет, прошел через зал в кухню, а оттуда завернул куда-то не туда.
Его встретил коридор с большим количеством дверей. Было душно, пахло чем-то терпким и сладким одновременно, цветочным и табачным. Во всех комнатах были люди.
Гладковыбритые мужчины с зализанными гелем волосами, тонкокостные женщины с белыми лицами и красными ногтями. Те впечатлили его, ведь пестрили ровными платьями, которых ранее Ибо почти не видел, только на картинках и в фильмах. Женщины, которых Ванцзе встречал на улицах или видел среди прислуги, так не одевались. Кроме, конечно, госпожи Ма. Но ту Ван Ибо воспринимал кем-то большим, чем просто красивая женщина . Она была выше мужчин семьи, выше Старшего брата, выше Главного дракона, хоть и преклоняла перед ним голову.
Никто не был в силах с ней сравниться.
Все эти люди были заняты и не обращали особого внимания на мальчишку. Коротко кивали, признавая в нём ребенка Хань, судя по одежде, но не более. Тогда Ван Ибо было трудно понять, кто чем занимается. В одной комнате фасовали и упаковывали что-то на тип рисовой муки. В другой — те самые женщины, многие из которых затягивались тонкой сигареткой, рассматривали украшения и камни в толстые линзы специальных очков. Одна из них, Ибо помнит, повернулась к нему и улыбнулась алым от помады ртом, показывая ряд ровных и желтоватых зубов. Всё бы ничего, но впечатление осталось жутким: из-за того, что на женщине были эти очки с десятком кружочков-линз, один глаз казался крошечным, а другой — огромным. Ибо помнит, что это заставило его поспешить. Так он и вышел во двор. И обнаружил этот платан. Вернулся он к “Дракону” уже по тем самым лабиринтам, многим позже, не желая снова встретиться с той женщиной взглядом. Сейчас, прекрасно понимая, чем были заняты те люди, Ибо не уверен, что чувствует хоть что-то. Еще он знает, что эти люди мертвы. По сознанию колко проходятся слова, сказанные братом вчера, но Ибо намеренно переключает свое внимание на настоящий момент. Он важнее того, что было, и возможно, он даже важнее того, что будет.
Благодаря тому, что он испугался тогда, он помнит этот путь сейчас. И может подойти к явно древнему платану посреди каменных застроек Французского квартала. Кто же поверит, что они тут есть, скрытые за особняками, не испорченные ни новым веком, ни прошлыми ошибками. Совсем другой Китай, который спрятался внутри того, за кого его принимают. Ушел под красную шелуху, покрыв себя нефритом тайны.
Как когда-то воины защищали себя, надевая зеленоватую чешую в качестве брони.
Ибо думалось, что раз он был ребенком, сейчас дерево покажется ему не таким большим, как тогда. Но нет. Впечатление платан производит всё такое же гигантское.
Ибо слышит едва слышное и искреннее: “Вау, лао Ван”.
Он усмехается. Это “лао” появляется всё чаще. В целом, за последнее время их отношения с Чжанем перешли на какой-то другой уровень. Взрослый и сдержанный, со своими тайнами и ранами, этот Сяо Чжань словно таял, показывая, кто скрыт внутри на самом деле. Это очаровывало, пугало своей неизвестностью, и влюбляло Ван Ибо ещё больше. Раньше это чувство не заставляло его так явно глупеть. Теперь же Ибо понимал, что во фразах брата о том, чтобы первое время держать Сяо Чжаня подальше от всего (и себя в том числе), было рациональное зерно. Кроме очевидных вещей. Как бы Ибо это ни нравилось. Долго ли будет тянуться это “первое время”? Что именно прописано в контракте? Но нет, нет. Не сейчас. Нельзя портить момент.
Ван Ибо сжимает руку Чжаня в своей сильнее и смотрит на него, спрашивая, словно сам пару сотен лет назад этот платан и садил: “Нравится?”.
Нет, платаном в Шанхае удивить сложно, каким бы огромным он ни был. Просто у этого дерева был секрет. Он начинался с вбитых поверх коры ветвей другого дерева, мощных и округлых. Вёл вереницей намотанных на канат разноцветных платков всё выше и выше. К сколоченным доскам дома на дереве, уютно устроившимся в гнезде величественных коряг.
Сяо Чжань не повышает голоса, словно боясь, что их кто-то застукает. Смотрит на Ибо с каким-то неизвестным ему до этого момента огоньком в глазах. Он шепчет:
— Я лезу первым, а ты меня страхуешь.
— Давай лучше я разведаю, как там…
— Нет, я лезу первым, а ты — за мной.
Ван Ибо поджимает губы и кивает. В конце концов, он не дурак, отказываться от такого вида Сяо Чжаня сзади. Первым так первым. Страховать так страховать. В этом он хорош. Вроде бы. Ну, должен быть.
Сяо Чжань скидывает туфли, в носках будет удобнее. Ибо, будучи в кроссовках, это никак не комментирует. Это все потому что Чжань наставивал — в день Чуньцзе надо выглядеть достойно. Хоть, на вкус Ибо, тот выглядит таким всегда, даже в трусах или голый. Особенно голый. Такая хорошая мысль. Сяо Чжань стягивает пиджак и бросает его в Ибо, тут же берясь за канат. Он начинает свое восхождение, совершенно не думая, как его оформлять, действуя по интуиции. Канат помогает, пока он не цепляется за надежный выступ и не принимается лезть дальше так. Ещё немного. Ван Ибо закидывает пиджак на низкую ветвь с первого раза, только после этого начинает лезть, сохраняя удобную дистанцию и, конечно же, оценивая вид. В этом дворе богатое освещение, белые фонари чередуются с красными, так что выпуклый силуэт оценить можно. И нужно. Сяо Чжань уже на финишной прямой, слышится кряхтение, Ибо видит только все тот же зад, остальному мешают ветви с буйной листвой. За кряхтением следует пыхтение, а затем забавный клич победителя. Шумный выдох и радостное: “Залез! Ибо, быстрее… тут мило!”.
Честно говоря, Ибо не помнил, что сам обнаружил в этом домике, когда лез в него много лет назад. Он помнит, что уснул там и жутко испугался, что не найдя его, Старший брат уедет, пришлось тут же спешить обратно.
Остальное как-то выветрилось из памяти.
Да и за эти годы многое наверняка изменилось. Удивительно, как этот домик среди ветвей вообще сохранился. Настолько прочный и широкий, чтобы вместить в себя двоих.
— Архитекторы умеют рисовать что-то кроме зданий?
Ван Ибо смотрит на их руки. Странное занятие, свойственное только людям, которые вляпались друг в друга. Они лежат на пыльном, дощатом полу. Пахнет деревом, смолой и почему-то мятой. Возможно в тех мешках, что под их головами, сухие полевые травы. Сяо Чжань изучает его вскинутую правую руку пальцами. В конце концов они вновь сплетаются, чтобы замком опуститься на его грудь. Он усмехается и отвечает:
— Не знаю как все архитекторы… но я умею. Тебе нужно что-то нарисовать?
Свет, стараясь быть незаметным, просачиваться сквозь щели, льется чуть смелее через кривой квадрат того, что должно быть оконцем. Кроме мешков, тут ничего нет. Что именно Чжань нашел здесь милым, наверное, сам факт существования такого места? Ван Ибо поворачивается на бок. Мешковина слегка колется, но не страшно. Чжань смотрит на него в ответ. Надо потянуться ближе, чтобы коснуться. Ибо очень хочется, но сначала он говорит:
— Скоро мне будут набивать тату… я хочу, чтобы ты нарисовал эскиз.
Сяо Чжань молчит. Он понимает, что это не просто прихоть. Он знает, что все действительно становится серьезным. Поэтому чуть кивает. Ибо продолжает:
— Это должен быть дракон…
— Я догадался.
Сяо Чжань говорит это мягко, даже слегка улыбается. Его свободная рука касается щеки, укладывается теплом ладони. Ибо заставляет её сместиться к губам и целует ровно в середине. Чжань говорит тише:
— А мне можно?
— Можно что?
— Тоже тату.
Ибо чуть хмурится. Сяо Чжань превращает улыбку в усмешку и поясняет:
— Конечно же не такое же. И наверняка меньше. Просто я тоже хотел бы… обозначить как-то новую жизнь. И раньше я бы и не подумал такое делать. Мне хочется узнать, как это будет. Больно и насколько. Чтобы знать, каково тебе. Хочу таким же способом, но… что-то другое. Да. Можно? Я нарисую оба эскиза.
Ван Ибо молчит, смотря в его глаза. В этом полумраке, куда гуще, чем на улице, глаза Чжаня кажутся почти что абсолютно чёрными. Это жутко и красиво. Ибо подается ближе, прихватывая губы в поцелуй. На них все ещё вкус острого масла. Ибо шепчет в них “хорошо”, целуя опять. Он повторяет это “хорошо”, когда плавно оказывается сверху. Ладони упираются в мешки, под тяжестью травы в них хрустят и шелестят, готовые впитать всё, что только ни случится. Чжань обнимает за шею, и прежде чем у поцелуя случился бы новый виток, он неожиданно спрашивает то, что Ибо не ожидал услышать:
— Тебе придётся убивать?
Ибо замирает, совсем немного отсранившись. Ему важно видеть выражение лица Чжаня в этот момент. То кажется спокойным и каким-то решительным в то же время. Ибо почему-то кажется, что ответ не так уж важен. Ему кажется, что Чжань его знает. Ибо говорит медленно, подбирая слова:
— Убивать… не исключено. Например, я точно убью за тебя. Если хоть кто-то будет угрожать тебе, я убью его. Если кто-то будет угрожать семье, я убью его. Это тот мир, в котором живу я.
Сяо Чжань ничего не говорит. Его руки тянутся к подвеске. Фэй надел её Ибо вчера. На тонкой цепочке белой платиной белел медальон, на нём извивился уроборос, кусая себя за хвост, он обрамлял голову дракона, словно охраняя. Такого дракона можно увидеть на старых гравюрах. Сяо Чжань чуть тянет за нее, заставляя Ибо наклониться ниже.
Он спрашивает:
— Тебе уже приходилось так делать?
Ван Ибо отрицательно качает головой, опускаясь ниже. Он устраивается между разведенных ног Чжаня, трётся носом о его щеку, заставляя обнять себя покрепче. Чжань шепчет ему на ухо:
— Когда это случится, я буду первым, кому ты расскажешь. Обещай мне.
Ван Ибо немного горько от того, что Чжань говорит “когда”, хоть он понимает — это правда. Это “когда”, а не “если”. Он шепчет в ответ, что обещает. Он скажет ему, когда это случится. Возможно, только ему и скажет. Ибо касается губами его шеи. Прихватывает кожу так, чтобы боль мягко растеклась, а след расцвел красным. Сяо Чжань задаёт вопросы, темы которых Ван Ибо не имел смелости поднять. Откажется ли он от него, если наконец-то увидит, кто он и откуда? Но, как оказалось, Сяо Чжань действительно всё понимает. Может даже лучше, чем можно было бы предположить. Пальцы Чжаня зарываются в его волосы, немного тянут, опускаются к шее. Ибо трётся о него, чувствуя, как Чжань под ним вторит его движению, выдыхая шумно и сладко.
У них снова нет ничего, чтобы закончить начатое так, как хотелось бы. От этой мысли смешно, и Ибо фырчит, говоря вслух:
— Как думаешь, это боги не хотят, чтобы мы наконец-то нормально переспали?
Сяо Чжань шепчет, чуть прищурившись:
— А ты оставил мой пиджак внизу, да?
Ван Ибо непонимающе замирает. Сяо Чжань выдыхает с улыбкой “вот дурак”. Ибо думает быстро слезть за этим пиджаком, но Чжань прижимает его к себе крепче.
— Забудь, мы слишком хорошо лежим. Да и… сам говорил, за нами следят. Не хочу трахаться, зная, что за нами наблюдают.
— Гэ не возбуждают такие вещи?
Сяо Чжань думает сначала просто сказать “нет”, потом начинает сомневаться. Ибо укладывается обратно, пока что не предпринимая ничего сверх. Странно лежать так, чувствуя взаимное возбуждение, но не пытаясь что-то с ним сделать. Жар равномерно разливается по телу, томится в нём, его ещё можно удержать. Чжань наконец-то отвечает:
— Наверное, если это просто общественное место… то это другое. А если это личная охрана… это не совсем корректно.
Ван Ибо умехается тому, как крепко Сяо Чжань задумался о вопросе. Вскинув голову, он снова провоцирует поцелуй за поцелуем. Сегодня они решат вопрос как всегда. Может, когда вернутся в номер, продолжат. Там им уж точно никто и ничто не помешает.
Дракон поднимает голову ровно в полночь. В небе Шанхая, ровно над выгнутой ветвью реки, распускаются первые звезды — они заявляют о себе грохотом, от которого сотрясается промозглый воздух. Череда фейерверков красит тьму красным.
К утру на коре платана появится надпись, которую выскреб кто-то умелый краем острого камушка.
«Лао Ван и Чжань-гэ были здесь». Если не знать, где она, то вряд ли хоть кто-то сможет её увидеть.
15. 春天来临。
XV.
Дьявол, коли уж упадет, даром не встанет.
И разве не бывает так, что человек, уверенный, будто поборол искушение,
неожиданно для себя оказывается его рабом?
Месяц и неделя спустя
Северо-западный округ административного района Пекина
Дед всегда стриг ногти себе сам, не подпуская ни к кутикулам, ни к самой пластине никого и ничего, кроме своего собственного книпсера. Последний ему кто-то подарил, и этот кто-то всегда вызывал неудовольствие бабушки: Сяо Чжань понимал это по тому взгляду, которым ба неизменно одаривала этот нехитрый инструмент. Никогда прежде и никогда после Сяо Чжань не видел ни у кого такой привычки и такого инструмента, пока, конечно, не пришла его очередь следить за ногтями в холостой жизни.
Эти кусачки и правда куда удобнее обычных ножниц.
Бабушка постоянно ворчала — по ее мнению Сяо Цзипин всю жизнь стрижет ногти слишком коротко, и по этой причине у их семьи не бывало богатства. Но тут бабуля, конечно, лукавила. С богатством и достатком все было в порядке даже в самые жуткие времена. До ареста деда.
Про арест в семье говорить было нельзя, но сам факт витал в воздухе. Сяо Чжань знал, что мама стыдится деда, хоть не было ясным, из-за чего. Он не убийца, он не вор. Некогда член партии, уважаемый профессор и заслуженный деятель. Был, правда, но от того, что он «был», то, что он сделал — никуда не исчезло. Чжань спрашивал у бабушки.
Та, конечно, сказала, что дед куда хуже, чем убийца или вор, вздыхала тяжко, в очередной раз елозя сероватой тряпкой по дну глубокой сковородки.
Добавляла: «Удивительно, что жив, и все также стрижет ногти по утрам, да как коротко!». Больше никаких комментариев не следовало. Чжань довольно быстро потерял к этой истории интерес. Но не к тому, что дедушка умел делать.
Дед умел управлять реальностью. После его слов и объяснений, окружающий мир никогда не оставался прежним. Сяо Чжань научился видеть то, что не видели другие, замечать то, что другим было недоступно, он притронулся к чему-то настолько всесильному и значимому, что остальные его мечты начали меркнуть. Последняя дожила до конца школы, но Сяо Чжаню хватило одного паршивого прослушивания, чтобы спокойно отдаться другому пути. Так он думал, во всяком случае, не подозревая, что эта дорога не менее терниста и даже более опасна, чем может показаться. Быть архитектором.
Дедушка говорил: «Уважай свое тело и его точные размеры, только наше тело является мерилом пространства. Твое тело — шкала, по которой ты можешь нащупать конечные пределы всего этого простора, понимаешь? Ай, ничего ты еще не понимаешь, а ну, давай, подсажу, и ты увидишь…».
Сяо Чжань не видел, пока ему не говорили. В конце концов, ему было всего девять и его «человеческое тело» еще не сформировалось достаточно, чтобы из долговязого головастика стать этой загадочной «шкалой». Но он пытался.
Дедушка говорил: «Пойми, когда древние архитекторы возводили все эти храмы… когда строили огромные статуи, высекая лица в камне, когда протягивали эту великую стену… что они пытались сделать? Внести страх и ужас в глаза и душу смотрящего, так ведь? Трепет! Игрались с масштабом, чтобы… знаешь, когда стоишь в начале огромной комнаты, огромного пространства, а там, в конце, есть человек… на возвышении. Даже если ты его выше в два раза, Чжань-Чжань, ты будешь чувствовать себя ничтожным. Видишь, что может сделать пространство?! Всегда учитывай человеческий масштаб! Всегда думай, что хочешь дать чужим глазам!».
Сяо Чжань никогда не бывал в подобных комнатах. И зарекся такие проектировать.
Дедушка умер, когда Сяо Чжань поступил на первый курс архитектурного.
Умер, как он сам успел сказать, с чистой совестью и счастливой улыбкой.
Сяо Чжаню хотелось верить, что это он — главная причина его светлого покоя.
Так вот, о пространстве. Сяо Чжань стоял посреди бескрайней, высушенной земли, словно вырезанной из чрева пустыни Гоби, которую зачем-то завезли под заглохшие строительные леса и заброшенные производства пригорода Пекина.
Эта земля была мертвой.
— Что здесь было?
Сяо Чжань прищуривается от морозно слепящих лучей, прикладывая ладонь козырьком ко лбу. Весна не спешила со своим визитом в «северную столицу». Секретарь Ли подходит ближе, затем внезапно ухает вниз — присаживается, чтобы попытаться соскоблить бурую грязь, растирает сухую глину меж пальцев. Смотрит снизу вверх.
Чистая рука уже тянется в карман пальто, чтобы вынуть зажигалку.
— Зачем тебе знать, что тут было, господин архитектор?
Сяо Чжань смотрит на секретаря взглядом «я действительно должен объяснить?», отворачивается, снова осматриваясь. Его первый проект в череде десятка. За последнее время его называли «господин архитектор» чаще, чем за всю его жизнь, хоть толком он ничего не сделал. Только вот выбил себе «поездку на объект». Хенг шаркает по мертвой земле, встает рядом. Зажигалка щелкает, секретарь Ли глубоко вдыхает.
Воздух, что казался холодным и пустым, обволакивает гвоздичным дымом.
Хенг шелестит на своем диалекте, к которому Чжань уже успел привыкнуть, тот такой же обманчиво мягкий и витиеватый, как туман сигарет шанхайца:
— Раньше здесь был дом. Такие же были и в других регионах по Китаю, и не только. Резиденция в Пхукете, еще одна в Кенджу, еще одна в Кобо. Пригороды, конечно. Приблизительно похожие по ансамблю строения. Потом эти дома постигло несчастье, один за другим. Неисправная проводка, неправильная установка обогревающих приборов, оставленные свечи без присмотра, утечка газа… такие… трагичные в своей «случайности» вещи. Когда же все истлело… было разобрано и закатано. Стерто. Так что… ничего тут не было, архитектор Сяо. Полное ничто.
Сяо Чжань слегка косится на секретаря, затем снова смотрит, прищурившись, вдаль. Кромка горизонта была темной и неровной, там начинался лес. Ничто, значит.
— Хорошо. Тогда… что господин Хань хочет, чтобы тут было? Конкретно тут. Понятие «резиденция» довольно… широкое. В контракте такие «мелочи» не прописаны. Сдача объектов с плавающими сроками… и «полная свобода творчества». Отсутствие ориентиров сковывает не меньше жестких рамок.
Ли Хенг медлит с ответом. Его мысли блуждают явно куда дальше этого места, в последнее время тот уходит в себя все глубже. Наконец-то секретарь фокусируется взглядом на Сяо Чжане и слегка улыбается, выдыхая дым носом. Чжаню думается, что будь Хенг хоть чуточку менее красив в каком-то совершенно древнем и даже диком смысле, с его тонкими ноздрями, полными губами и знающим прищуром глаз, это не выглядело бы так эстетично. Это выглядело бы вульгарно.
Хенг делает шаг ближе и шепчет, потянувшись к уху архитектора:
— Сделай так, чтобы им с Ванцзе захотелось снова тут жить. На этом… кладбище. Сможешь?
Хенг отворачивается, кидая окурок на землю. Его черные берцы проходятся наждачкой по ржавой глине, он следует к машине. Чжань снова смотрит за горизонт.
Он никогда не забывал, что Ван Ибо хотел получить от него «дом». Проектировать тот в отрыве от понимания на какой земле его придется строить, было занятием легким.
От того и наивным. Сяо Чжань опускает взгляд на окурок. До фильтра осталось всего ничего, бумага тлеет алым. Сяо Чжань придавливает окурок подошвой, потом наклоняется за ним. В дверце машины пустая банка из-под пепси, пожалуй, он сунет окурок туда, а потом выбросит все вместе. В ближайшую мусорку. Сяо Чжань видит, как секретарь Ли уже что-то объясняет курящему водителю, возможно, и стоящему рядом Медведю.
Последний при этом продолжает следить за Сяо Чжанем немигающим взглядом.
Этот японец очень серьезно относится к своей работе. Чжаню уже казалось, что даже когда он один на один с унитазом в квартире, взгляд личного охранника буравит его затылок через стены. Сяо Чжань невольно оборачивается напоследок, прежде чем встать рядом с Хенгом. Огромный, безжизненный пустырь.
«Никогда ничего не было. Полное ничто». Сяо Чжань видел больше.
Обугленное полотно, на котором предстоит возвести жизнь.
Окурок, как водится, доезжает в жестянке из-под пепси до квартиры.
Сяо Чжань выбросит банку в мусорное ведро в коридоре своего нового дома.
Дома на ближайший год. В самом сердце Пекина.
х х х
Пригород Шанхая, арендованный комплекс бывшего пансионата англиканской церкви
Ветер шелестел листвой с юга, принося с собой запах пыли, срезанной травы, и отголосок машинного масла.
Наверное, шоссе уже близко. Недавно на нем произошел несчастный случай.
Остались ли следы крови на асфальте после ночного дождя?
Вообще не те мысли, что могут помочь сейчас. Ван Ибо упирается рукой в ствол развесистого клена, выдыхает под нос нечто несвязное — ногу прошивает коротким спазмом боли, — Ибо решает передохнуть. Садится подле дерева, найдя в нем опору. Прикрывает глаза. Сердце все еще гулко бьется в клетке реберных дуг. Глубокий вдох. Размеренный выдох. Лишь бы не закололо, неприятных ощущений и так полно.
Дела в реальности обстоят так, что в ответ на твое джиу-джитсу никто им же пользоваться не будет. Это веская причина, по которой на Ван Ибо просто объявили охоту. Незатейливо.
Не дав доесть. Тренировка для новичков под кодовым названием «взять объект живьем», тренировка для Ван Ибо из серии «живьем не даться».
Пока что силы были вроде равны. Ван Ибо получил только пару синяков, возможно — растяжение голени, очень нелепо, когда всего лишь решил перебежать от одного укрытия в другое. На бедре красовалась насмешливо синяя краска — задело по касательной. Момент для себя, который Ибо хотел украсть, ему не давался.
В наушнике уже слышался бубнеж инструктора: «Господин Ван. Прокомментируйте ранение и дальнейшие действия».
Ван Ибо не думает, что сейчас лучший момент для этого, но если не скажет — просрет баллы. А от их количества зависит, сколько еще дней ему не видеть Чжаня. Все их диалоги записываются, и каждую запись Хань Фэй слушает крайне внимательно. Чтобы затем отписать пару комментариев наставникам.
А те, в свою очередь, создают для Ибо новую охоту. Пока что тот все никак не выйдет из того вида «игры», где добыча — он сам. И это бесит.
Собравшись с мыслями, но предпочитая все еще не открывать глаз, Ибо отвечает:
— Любые ранения бедра опасны… Особенно если задета бедренная артерия или ее ветви. Жить тогда пару минут. Что делать, ну… Убрать нагрузку с ноги, перенести вес на здоровую. Прыгать на ней… Раненая нога опирается на носок, и только. Искать турникет. В идеале — допрыгать до кого-то с турникетом, не знаю… ремнем от брюк, хотя бы… и в больничку.
— Не знаете?
— Знаю. То, что сказал — знаю.
— Если противник выдернул предмет из раны?
— Засунуть обратно либо предмет, либо палец, хоть что-нибудь…обычно палец.
— За верный дополнительный ответ засчитываю десять баллов.
— Спасибо, профессор Макгонагалл.
— Что, господин?
— Ничего. У меня назрел вопрос. Я вроде как должен думать над тем, как провернуть контракт с Мумбаи, но вместо этого снова участвую в сафари. Глава не может выйти со мной на связь? Позови брата, давай.
— Я не думаю, что это…
— Блядь, позови мне брата, это приказ.
Шум наушника гаснет до тишины. Ван Ибо чуть приоткрывает глаза, упираясь затылком в ствол дерева. Тихо. Никого. Можно закрыть глаза обратно. Лодыжка немного ноет, в остальном все в полном порядке. Физически. Ментально Ван Ибо разъебывает через день, но вовсе не из-за того, что на него буквально и метафорически спускают всех собак.
Сначала белый шум. Затем спокойный голос:
— В чем срочность, Ванцзе?
— Если я не только выживу, но доберусь до тебя и приложу к твоей голове пушку, я увижу Чжаня завтра?
— Меняешь правила игры?
— Хочу дойти до финального босса за один раз. Быть добычей мне не идет, от этого мутит. Хань-гэ, я пытался понять твой великий задум, но единственное, что я понял, что мне все это не нравится.
Тишина. Затем спокойный голос продолжает, добавляя скучающую нотку рассудительности:
— Ты пропустил слишком много за эти годы, расслабился, твои навыки нужно тренировать в ускоренном режиме. От теории ты воешь, так что, вот тебе сплошная практика. Доберешься до моей головы к пяти часам, устрою тебе встречу. Но не завтра, а послезавтра.
— Это обещание?
— Обещание.
Ван Ибо глубоко вдыхает влажный, от того и густой, воздух, открывает глаза.
Там, всего в метрах трех, стоит бритоголовый амбал. И смотрит ровно на него.
Связь снова гаснет, секунда, и Ибо слышит не только привычное кряхтение инструктора, но и выстрел. Клякcа красного расцветает на коре дерева ровно там, где еще мгновение назад была его голова. Новеньких же просили брать его живым, а не без башки?
Ван Ибо коротко смотрит на наручные часы. Учитывая заглушки по всему периметру пансионата, те могут дать ему лишь основную функцию — показать время. У него есть три с половиной часа, чтобы добраться до Хань Фэя и уткнуть дуло тому в затылок. Первая часть задачи в сравнении со второй — детская забава.
Но Ибо никогда не отказывался от сложных задач.
х х х
Избавиться от подступного подозрения, что его заводят в ловушку, Ван Ибо не удавалось.
Что-то вроде интуиции или шестого чувства, назвать можно как угодно, скоблило по желудку.
Вроде он и сам потребовал изменить ход игры, казалось, все логично и он сейчас у руля ситуации. Но чем глубже Ибо забирался в лес, плотным кольцом окружающий пансион, тем больше сомнений прорастало в его уверенности. Что на самом деле Хань-гэ хочет ему показать и чему научить? Видеть врагов даже в своих людях? Ну, по факту, минут двадцать назад один из «его людей» целился ему в голову. Ибо не знает, будет ли это как-то зафиксировано, но вопрос явно надо поднять. Инструкции были четкими.
Или Ибо знает только их часть и на самом деле кому-то было приказано действовать иначе? Мозг кипел, попытки уловить суть ускользали. Скользким становился и лес. Перейдя из лиственного моря в туманную гавань бамбуковой рощи, он сохранил в себе всю влагу ночного ливня. Ибо шел, стараясь быть тихим и осторожным. Бамбук вокруг, словно в насмешку, реагировал на каждый его шорох. Казалось, он становился все плотнее. Связь вместе с тем, становилась все хуже. В наушнике глухая тишина.
— У тебя есть два варианта, юный господин.
Голос застал Ван Ибо врасплох, но лишь спровоцировал работу рефлекса: крепко держать нож на уровне лица, пригнуться и осматриваться. Голосу было смешно. Поступь не была слышна, Ибо резко обернулся и наконец-то увидел источник. Между крепких жердей бамбука, нарисовалась темная фигура. Затем она оказалась ближе, словно до этого ее силуэт был лишь обманом зрения. Только в этот момент Ибо осознал, что голос был женским. Рост чуть ниже самого Ибо, гордая осанка, по-птичьи длинная шея, открытое лицо и спокойный взгляд. Как и все новенькие, одета в черную экипировку. Правда, есть одно отличие. Новеньким бы вряд ли доверили 5,56-мм карабин М4. Автомат. На производстве подобных моделей все эти годы «казна Хань» и держалась в той или иной степени. Уничтожив руководящие группировки, стерев с лица земли главу и его приближенную семью, никто не мог добраться до нитей снабжения. Подставные лица, оффшоры в Сингапуре и Британии, теневые сделки и производственные процессы. Пока партийный аппарат и заинтересованные лица все пытались найти и перерезать артерии, валютная кровь продолжала капать, добавляя нули на счета — «сердце» любой группировки. Сейчас Ибо понимал, что бразды правления взял на себя секретарь Ли. Как истинный белый веер. Его задачей было сохранить и возродить. С ней он справился на ура, годами строя из себя недалекого бастарда, который потехи ради подался в адвокаты, почему-то собирая весь «неадекватный сброд». Только вот этот самый сброд теперь ему должен. И скорее всего… тот человек, что стоит перед Ибо сейчас — кто-то из тех самых людей. Они составляли «костяк», если не считать выживших. Но тех Ибо знал по лицам. А эту девушку видит впервые. Вроде как. А может, и нет?
Девушка встает в двух шагах, ее руки расслабленно лежат на автомате.
Она словно встретила забавную зверушку. Склонив голову набок, ее голос продолжает:
— Если ты действительно дойдешь до главы и приставишь к его голове пушку, которую еще даже не нашел, он вряд ли сделает то, что обещал.
Ван Ибо хмурится. Конечно настроиться на его чaстоту дело плевое, но он думал, за этим процессом следит Фэй-гэ и инструкторы. Может, эта девушка — одна из них? Но не слишком ли молода для того, чтобы… ладно, кто бы говорил. Ван Ибо не спешит расслабляться, сохраняя и позу, и бдительность.
— Ты сомневаешься в том, что глава сдерживает обещания?
— Нет, в этом я не сомневаюсь. Но только если это обещание не идет вразрез с его клятвой. А он клялся выучить наследника лучше, чем самого себя, так что…
— Какое это имеет отношение к делу?
Девушка улыбается так, словно Ибо поделился с ней шуткой. Все это начинает напрягать. Время никого не ждет, до пяти часов остается все меньше и меньше, а он мало того, что не продвинулся, так и действительно все еще без пистолета. Взгляд опускается на автомат… ну, в принципе…
— Если ты доберешься и сможешь прижать господина Ханя, а тот вряд ли будет сопротивляться, это станет его победой, а не твоей. Он скажет тебе, что урок заключается в том, что ничто и никто не должен быть выше семьи. И если ты готов фактически убить главу за встречу со своим архитектором… предаст всегда тот, кто ближе. Глава просто разыгрывает с тобой сцену императорских времен, демонстрируя, как опасны чувства и потеря головы из-за них. И это наверняка отбросит тебя от встречи с архитектором еще на недельки две, к тому же, ты наверняка расстроишься, что оказался таким ублюдком.
Ван Ибо невольно выпрямляется, пытаясь найти в лице девушки намек на насмешку или розыгрыш. Осознание накатывает вместе с прохладным пассом ветра по лицу. Тот забирается под ткань водолазки, холодит взмокшую шею и спину. Девушка продолжает смотреть серьезно. Собранные в тугую косу волосы перекидываются с плеча за спину, пальцы в перчатках сжимаются у приклада, она отводит взгляд с легким вздохом, продолжая мысль:
— Ты можешь либо прийти к нему и опередить его, вместо дула у виска предложить свою верную службу и сказать, что ты осознал и понял, блуждая… в бамбуке. А можешь придумать что-то свое. Решай сам.
Ван Ибо разрешает себе немного расслабиться, во всяком случае, он опускает руки. Солнце пробирается в чащу, бамбук режет его лучи, оставляя печать света лишь на половине лица девушки. Ибо чуть прищуривается. Что-то в ее лице, что-то в этой гордой осанке…
— Как тебя зовут?
Девушка морщит нос, затем опускает взгляд. Грубые ботинки кажутся крайне тяжелыми, она утыкается носком одного в землю, словно думая поддеть, затем меняет решение. Вскидывая голову, она говорит куда тише: «Тан Тянь. Сестрицы Тан-Мянь. Из трех осталась одна».
Ван Ибо совершает стратегическую ошибку, если говорить языком инструктора: выпускает из руки нож окончательно. Тот падает на сырую землю, когда Ибо порывисто обнимает девушку, что только что обрела свое имя в его памяти. Сестрицы Тан-Мянь. Смешные и почти одинаковые, только самая младшая, Тан-Тан, почему-то была выше. Единственные девочки на весь их Дом, воспитанницы, в будущем должны были стать личной охраной жены главы, если уж случится такое чудо… в памяти проносится слишком много. Ван Ибо не был особо близок ни с кем из детей, мальчишки видели в нем либо соперника, либо будущего дракона, что откладывало свой отпечаток. Но эти девочки… Ибо думал, он был уверен, они…
— Ты жива, ты жива…
— Говоришь очевидное, куда это годится, юный господин?
— Как? Скажи мне, как?
Ван Ибо почему-то шепчет это, голос хриплый, он даже не пытается прочистить глотку. Сцепив пальцы на плечах девушки, он всматривается в ее лицо. Он видел Тан в последний раз слишком давно. Лет шесть назад. Они не были в доме во время пожара, их отослали годом ранее в другую резиденцию, как раз в ту, где упор делался на обучении женской части клана. Сестрицам уже исполнилось по двенадцать, самое время всерьез взяться за дело и получить свое первое настоящее оружие.
Этот дом горел в ту же ночь. Просто в другой точке материкового Китая.
— Сестрицы помогли… они сунули меня в бочку с водой, а затем… меня уже нашел мастер Ли.
— Секретарь Ли? Он был там?
— Он жил с нами в то время. Учил… всякому.
Тан чуть улыбается. Из-за этого, как и всегда, на щеках появляются едва заметные ямочки. Ван Ибо не может сдержать улыбки в ответ, хоть это странно. Светлая горечь всегда странная, но никогда не стыдная. Тан отпихивает его от себя и говорит уже с вызовом:
— Так что, юный господин? Какое у вас решение? Пойдете к главе или…
Ван Ибо качает головой, затем вскидывает ее, чтобы посмотреть в небо. То кажется синим и вместе с тем тяжелым, словно бамбук вокруг на самом деле сваи, что его держат. Ибо вздыхает, растирая шею. Радость, горечь, недоумение, сомнение, желание…
В голове вдруг всплывает шепот Чжаня: «Давай не иметь привычки прощаться?»
Тогда Ибо показалось, что это просто романтическая и милая глупость, которую можно шептать поздно ночью, прежде чем обнять покрепче. Утро же расставило все по своим местам. Сяо Чжань подписал контракт, скрыв от Ибо половину. Он видел лишь договоры по строительству, приблизительные сроки, стандартные бумаги о неразглашении… но не те пункты, что касаются «раздельного проживания на ближайшие полгода» и графиков встреч с плавающими датами.
Сяо Чжаня забрали, пока Ван Ибо спал, и тот, видимо, решил ничего не усложнять. Идиотизм. Его «любовный интерес», как любил обозначить это секретарь Ли, использовали, чтобы научить его не быть слабым. Карикатуры на настоящий шантаж, карикатуры на похищения, карикатуры драматичного предательства. Ван Ибо не любит играть по чужим правилам, это просто не в его натуре, что тут можно поделать. Он хотел бы научиться ставить свои правила и свои игры. Видимо, сейчас подворачивается случай потренировать именно такой навык. Ван Ибо коротко облизывает губы и снова смотрит на автомат в руках Тан.
— Или… я думаю, или. Я не хочу участвовать в постановке этого театра, а то, что ты сказала…я почти что пришел к этой мысли. Но… и мне хочется кое-чему научить брата. Не беспокойся, это не что-то про предательство, просто… он все еще не понимает, что мне не нужно выбирать или что… м-м, господин архитектор — моя слабость? Это не так. Он — часть моей семьи… нашей семьи.
— Но он — не человек Хань. Глава, да и все мы, никто не воспринимает архитектора так, только как каприз младшего господина. Никто не верит в глубину чувств, уж прости, тебя считают глупым в силу возраста и опыта, а архитектора… все равно подозревают в корысти. Да и разве у него есть выход?
— Верно, — Ван Ибо кивает, уперев руки в бока, затем повторяет еще раз, — Верно.
Ветер снова рыщет по роще. Заставляет бамбук трепетать острыми листьями. До пяти часов остается все меньше и меньше, но важно ли это теперь… Ибо поднимает взгляд на девушку. Понимает — родинка у правой брови, вот, что было зацепкой для того, чтобы потянуть за нить памяти. Ван Ибо усмехается краем рта и подходит чуть ближе:
— Что может убедить Фэй-гэ в том, что Сяо Чжань — человек Хань?
— Время и верная служба?
Ван Ибо чуть качает головой, затем наклоняется за ножом, сует тот в кожаный футляр на ноге, говорит чуть громче, застегивая ремешок покрепче:
— Мне даже не придется особо ничего делать, все разыграется, как надо, стоит мне только до него доехать… я знаю Чжань-гэ, он не подведет, а это убедит брата…
— Убедит что, Ванцзе?
Ван Ибо выпрямляется и слегка улыбается, когда говорит Тан: «Одолжишь автомат? Мне чисто чтобы за ворота выйти, охрана в штаны наложит». Девушка прищуривается.
Но автомат отдает. В любом случае, секретарь Ли не говорил ей этого не делать.
А только внести в голову Ванцзе правильную мысль.
Через сорок минут Хань Фэй будет следить за тем, как зеленая точка с кратким обозначением в одну букву, удаляется от пансиона все дальше и дальше. Это вызовет лишь усмешку. Глава Хань расслаблено откинется на спинку кресла, грея в пальцах стакан с ледяным гранатовым соком, слегка разбавленным хлебной водкой.
х х х
Пекин, жилой комплекс «Белый Лотос»;
Главным достоинством Медведя было то, что он молчал. С одной стороны.
С другой стороны — эта же особенность оставляла жуткое впечатление. Какая-то давно забытая, отбитая и озорная часть Сяо Чжаня все время подмывала его делать или говорить что-то, чтобы вызвать реакцию у японца. Хоть какую-то. Да, Чжань помнил историю про выдавленные глазные яблоки, но пока он «охраняемый объект», а не угроза, глаза останутся целыми. Надо надеяться. Чжань не часто рисковал. Помнится, день назад он решился рассказать Медведю анекдот. Будучи с ним в лифте. В каком-то смысле эффект был достигнут — японец медленно перевел взгляд с цифрового табло на его лицо. И моргнул. Сяо Чжань решил, что шутка удалась и мысленно отметил анекдот, как удачный.
Медведь по обыкновению занял позицию у окна, когда в дверь позвонили. Наверное, курьер. Чжань уже не дергался в коридор, хоть раньше натыкался на суровый вгляд «самурая». В Медведе было два метра роста, он весь — сплошной перекат тугих мышц, но двигается при этом на удивление плавно и бесшумно. Если бы требовалась иллюстрация к словосочетанию «машина убийства» — можно было вклеить фотографию японца и дело с концом. Возраст Медведя определить трудно. Чжаню не хотелось думать, что обладатель такого взгляда к тому же и молод, Медведь просто застыл в какой-то момент своей жизни и превратился вот… в это. Чжань проводил довольно много времени в одиночестве, лишенный на первый месяц по контракту какой-либо связи, так что его фантазия цвела буйным цветом. Он придумывал драматичные истории жизни Медведя, которые могли привести его в ту точку, где он казался. Порой сюжеты были настолько удачными, что Сяо Чжань еле сдерживался, чтобы не поделиться. Чисто ради самой истории.
Иногда он уговаривал Медведя сесть к нему на диван, чтобы посмотреть телик. Широкая плазма пестрила вариантами сериалов и фильмов по вечерам, Чжань втыкал во что-нибудь либо смешное и тупое, либо жуткое и страшное. Ни одна картина все еще не вызвала в Медведе никаких зримых эмоций. Обсуждение увиденного вслух походило на монолог шизофреника, ведь Сяо Чжань сам же себе и отвечал. Но все это хотя бы отвлекало. От банальной тоски и страха за Ван Ибо до в целом от ситуации, с которой сейчас приходилось мириться. Сяо Чжань старался не строить иллюзий, так же, как и не плодить опасения. Делал свою работу. Бегал по утрам (конечно же заставляя тем самым бегать Медведя и еще часть охраны, которую еще ни разу толком не видел). Заказывал продукты на дом. Проводил уборку. Читал книги. Отвечал на письма по работе (бюро было убеждено, что он в длительной командировке в ОАЭ на секретном объекте, приятные суммы премий усыпляли бдительность даже такого человека, как Сяо Бай).
Чжань бесконечно чертил будущие «дома семьи Хань», вот, что занимало львиную долю дня и отвлекало лучше всего.
В целом, это было похоже на времена ковидных локдаунов. Только с той разницей, что тебя гипотетически может убить не вирус, а там, снайперская винтовка, ну или тебя могут выкрасть. К сожалению, их совместное появление на Чуньцзе в «узком семейном кругу» разнеслось слухами по теневой части Китая, так что какие-нибудь отморозки из банд помельче и по-глупее, могли бы использовать эту зацепку. Это было ожидаемо. Клан Хань еще не так хорошо окреп, как хотел показать. Главным слабым местом продолжали считать Ванцзе. Так объяснил ему расстановку сил секретарь Ли. На вопрос, чем же конкретно знаменит клан Хань, тот только рассмеялся и предложил ему партию в маджонг. Через пару дней. Чжань уже не надеялся на такое развлечение, Хенг кормил его этими предложениями уже вторую неделю. В этот вечер Чжань ожидал курочку в кисло-сладком и овощной салат, очередную серию сериала о зомби и, возможно, наконец-то узнать, спит Медведь вообще или нет.
Потому что если нет, то он, может, и не человек вовсе?
В момент, когда Сяо Чжань слышит короткий, но явный смешок в коридоре, он встает с дивана и аккуратно, очень тихо, идет к двери. За широкой спиной японца ничего не видать, но в его левой руке уже виднеется белый пакет доставки. Чжань слегка прищуривается, не имея ни очков, ни линз (дома он надевал первое только когда работал с чертежами или хотел пялиться в окно, а бег без линз казался ему особенно волнующим), но ему достаточно прислушаться.
Голос… Ван Ибо? Слуховые галлюцинации?
Ван Ибо знает японский?
— Я все равно не могу вас впустить, юный господин.
— Кадзуо… ты видел мои пеленки, ты точно знаешь, что это я, а человек, которого ты охраняешь — мой! Почему, скажи мне, ты меня не пропустишь?
— Глава Хань не давал таких распоряжений.
— Конечно он не давал таких распоряжений, но зато я привез не только курочку, в пакете еще и твой любимый зефир… в шоколаде. Купил перед тем, как на поезд сесть…
— Юный господин, это подкуп. Вы подкупили и остальную охрану таким образом? Мне надо будет провести беседы…
— Остальных я взял обаянием и угрозами, Кадзуо, только ты достоин настоящего подкупа. Да. Сладкий подкуп. Я ехал из Шанхая в Пекин в общем вагоне, устал, как собака, Кадзуо! И ты мне должен!
— Вы действительно хотите чтобы я исполнил вашу просьбу пропустить вас как уплату того долга?
— Ну, у меня в запасе есть еще один случай и плюс твоя верность до смерти, так что… да? Это не запятнает твою честь?
— Если это в уплату долга, тогда я бессилен. Но мне придется известить господина Ханя…
— Извести, я его тоже уже известил, можешь подтвердить теперь… так дашь пройти?
Сяо Чжань не понял ни слова из того, что было сказано, но когда Медведь наконец-то сдвигает свое тело правее, он действительно видит Ван Ибо. Месяц прошел. Тот показался ему чуть бледнее, чем всегда, явно уставший, но и какой-то… немного другой. Сяо Чжань без понятия, что происходило с ним все это время. Но он улыбается, сразу же подходя ближе. Отучившись стесняться молчаливого присутствия Медведя, Сяо Чжань обнимает Ибо как можно крепче.
Тот только выдыхает в его шею «привет», а затем «я скучал». У Сяо Чжаня много вопросов. Вместе со страхом, они превращаются в кипящее варево в его голове, но на пару секунд можно и подождать. Обнять покрепче. Повернуть голову так, чтобы посмотреть в глаза.
И получить долгожданный поцелуй, после которого все тревоги умолкают.
Ибо все ему расскажет, но самое главное — он в порядке. Теперь это действительно так, когда можно пощупать, коснуться, взъерошить темные волосы и взять за руку, утягивая в сторону кухни. Удивительно и просто. К тому же, раз Ван Ибо здесь — он не злится, что Чжань… не злится же, да? У него не было выбора. Контракт был составлен дьяволом или вроде того. Он все объяснит, теперь уж точно.
Медведь же успел закрыть дверь на все замки по новой, протиснуться мимо юного господина и объекта Х в гостиную, собрать срочное совещание через приложение и вытащить на свет первую из пяти пачек зефира в шоколаде.
Обычно невыразительные губы озаряет улыбка. Всего на секунду.
Никто не поверит, если сказать, что такое возможно.
16. 坚果
х х х
Всякая любовь есть переход в новую веру.
XVI.
Шанхай
Весна подкрадывалась к Шанхаю через дождь. Тот лил и лил, лишь изредка позволяя себе перерыв. Его воды были всё теплее, но вряд ли кто замечал это. Шанхай затаился, спрятанный за серой завесой, он готовился принять жар, готовился подставляться под палящие лучи солнца. Но прежде ему нужно напитаться влагой, разбухнуть, расплескаться, вымыть всё то, что пыталась сохранить промозглая зима. Янцзы старалась выйти из берегов и кое-где ей это даже удавалось. Река боролась, словно очнувшись от дрёмы.
Она знала лучше прочих: весна — это время для попыток вырваться из-под гнёта.
Шанс, что дается всего раз, она чувствовала его вкус в каждой капле.
Лазурное BMV привлекало к себе внимание не только цветом, но и стилем вождения. Во времена, когда везде натыканы камеры, казалось, что каждый должен соблюдать правила если и не ради безопасности, так хоть из-за денег. Но водителю явно было плевать. Машина, которой свойственна массивность, умудрялась скользить по мокрым улицам юрко, успевая за секунду до смены цвета, и за мгновение до протараненных боков. В салоне густо пахло миндалем и выпечкой. Динамики приглушенно отбивали ритм очередного корейского хита, поверх музыки через раз слышался голос навигатора. Чопорный и женский, он выговаривал на путунхуа заготовленное «через двести метров поверните направо», «съезд налево», и «предлагается сменить маршрут, через триста метров начинается пробка».
Таких маршрутов Хенг сменил уже два. Не то чтобы он спешил, по правде, он старался оттягивать момент прибытия в пансион всеми доступными методами.
Для начала — он проспал. Затем слишком долго возился с кофемашиной. Вместо одного разговора, провел целых четыре, методично поедая орешки и желейные конфеты из пиалы. Переговоры касательно новых ветвей бизнеса, поддержка старых, чистка грязи. Вербовка, перетягивание, перехват, перевоспитание, проверка на вшивость. Теневое кураторство Ванцзе. Все это требовало максимальной концентрации, холодной головы, планов, расчетов. Одна из главных функций белого веера — поддерживать стратегию главы через достойную тактику. Над ней трудятся они оба, но большая часть практических решений, исполнение задуманного, как и пути снабжения, чтобы было на что, — всё это на его плечах. Ответственность, о которой он всегда мечтал. То, к чему его готовили. Если бы госпожа Ма была жива, она бы позволила себе легкую улыбку в эту честь. Она бы им гордилась, он знает.
Потом желудок Хенга запротестовал против всех желейных конфет (даже вопреки вкусу сакуры и матчи), и уж тем более против орехов. Так что секретарь Ли промаялся с поиском чего-нибудь от изжоги еще добрых минут сорок — под такое дело он решил навести порядок в своей аптечке. Затем следовало одеться. Хенг перетряхнул весь гардероб, прикидывая, что сработает, а что нет. После потратил еще минут двадцать на презрение к себе за подобные порывы, припомнил ночь на Чуньцзе во всех красках, и запил все это стаканчиком крепленого винца из холодильника. Нет, они не переспали. Случилось нечто похуже. Секс был бы логичным, банальным, пошлым и приятным последствием всех их игр на ножах за всё это время. Хенг не придал бы этому вообще никакого значения. И, кажется, господин Хань это прекрасно понимал. Но зачем?
Хенг сбежал, и он прекрасно знает это. Накинул на себя миссию по слежке за архитектором, дышал пыльным воздухом Пекина в полные легкие, наивно полагая, что вот-вот и прояснится. Он увидит картину целиком. Но вместо этого все застлало пеленой, кажется, даже более плотной. Хенг терял концентрацию, зависал, вел туманные разговоры с архитектором, пытаясь найти какой-то знак извне. Потом, весьма ожидаемо, Ван Ибо наконец-то добрался до своего объекта любви. Слушая их шепот в постели через прослушку, Хенг смотрел в пустоту, закинув ноги на стол.
Все эти глупости… со стороны они всегда звучат нелепо. Хоть, надо отдать должное, зубы от сладости не сводило. Ван Ибо рассказывал, как скучал. Архитектор Сяо принимал это и через его фразы было понятно, что тоска взаимна. Убеждал, что он никуда не денется. Потом тот обнаружил, что Ван Ибо на самом деле не должен был приезжать. Проницательно подметил, что, конечно, если бы господин Хань действительно не хотел бы этого, то у Ванцзе хрен бы получилось… что правда, то правда. Со слов Ибо он это понимает.
Но не понимает, что происходит на самом деле.
Они строили предположения, пока Хенг пытался нащупать собственные и вовсе не о них. Скачав звуковые дорожки, он перекинул их на флешку. Так надежнее, чем посылать файлом. В конце концов, Хенг хотя бы немного уважал интимность момента. Архитектор Сяо продолжал быть чистым, словно стекло, благородным, словно Небожитель из старых сказок, от того местами наивным до головной боли. И все же… это может быть маской. Проверки не закончатся никогда, даже если Хань Фэй отзовет приказ. Хенг всегда будет сканировать господина Сяо, это его работа. Он знает о его прошлом, выискал все грязное бельишко, о котором тот мог и не подозревать, но пока что… пока что тот момент на мосту — все ещё переплетение нитей судьбы. Хенг по юности в неё совсем не верил. Но это юность. Она полна показного атеизма.
И уже давно прошла.
Машина вырулила на шоссе, можно было бы вздохнуть с облегчением и поддать газу, но вместо этого Хенг плелся в общем потоке, внезапно раздражая медлительностью там, где уж точно было бы позволено слегка нарушать правила. Покосившись на бардачок, он дернул крышку и вытащил на свет шуршащую пачку печенья. Круглое и слегка пухлое, его осталось не так уж много. Хлопья миндаля прилипли к его бокам, затем и к пальцам. Хенг не беспокоился ни о крошках, ни о сахарной пудре в уголке рта. Он жевал медленно, словно пытаясь распробовать что-то еще, кроме очевидной сладости и легкой терпкости. Облизывал губы. Затем и пальцы.
Не сводя глаз с дальней точки в конце дороги.
До бывшего пансионата англиканской церкви осталось менее часа езды.
х х х
Кости бьются о стенки деревянного стакана. Еще секунд десять до минуты, и те вскинутся в воздух под жадные взгляды играющих. Тао Жуань клянется, что его игровым костям уже сто лет, а может и больше. Они передавались из поколения в поколение, именно ими играли в сик бо на улицах Чанша, Чэнду, а затем и Пекина. А вот теперь, когда он, самый младший член семьи, добился такой чести, как стать человеком Хань — теперь эти кости подкинуты в сладком воздухе Шанхая. Кто бы мог подумать? Ставки собраны. На низком столике распределены фишки, а старик Ювэй — новый садовник, — наводит ручкой на обратной стороне списка необходимых покупок цифры предполагаемых комбинаций. Тан-Тан единственная, кто не смотрит на полет игральных кубиков. Слоновая кость с черными выбоинами очков, те с треском падают на столик и замирают. Тан-Тан следит за подъездной дорогой. До того как кости стали биться о стенки стакана, ей сказали, что ворота были открыты извне. На это пока что имел право только один человек. Машина съехала с главной дороги, и значит, кто бы там ни был, он нацелен на теневой вход в пансион. Совсем скоро… Старик Ювэй довольно кряхтит, пока других охватывает гогот радости вперемешку со стонами разочарования. Кому-то повезло, а кто-то всего лишился. По правилам дома Хань играть на деньги и убийства было запрещено, так что вполне естественным порывом было заменить деньги едой. Кто-то радовался, а кто-то сокрушался по тому, сколько им достанется тушеной свининки, чесночных лепешек и бычьих ребрышек.
Но все в едином порыве запросили еще один раунд.
Послышался собачий лай — свору чунцинов выводили на прогулку в лес. Надо успеть, пока дождь не начался по новой. Господин Хань лично ездил к заводчику отбирать щенков и пару рослых особей. Редкие собаки, их тут теперь было восемь штук. Учиться охоте — одно из важных умений, по которому даже надо сдавать зачет. Кроме ловких чунцинов, господин Хань планировал купить двух доберманов. Таким был последний из слухов по этой части. Все с удовольствием судачили о любви главы к охоте, это веяло чем-то благородным и правильным. Тан-Тан не шибко об этом задумывалась. Её детство и юность проходили в постоянной охоте, будь то на животных, других людей, или же в роли добычи. Вскоре машина и правда появляется. Тан-Тан приходится заставить себя усидеть на месте, а не кинуться навстречу. Лазурная иномарка кажется чем-то слишком пафосным на таком фоне. Мотор глохнет, дверца открывается и Ли Хенг выходит из машины. Темные авиаторы скрывают взгляд, волосы по обыкновению стянуты в высокий хвост. Секретарь Ли держится за дверцу некоторое время, вскинув голову, словно высматривая что-то в окнах, а может, в небе. По нему с необычайной скоростью плывут серые клочья туч, где-то там, высоко, ветер пытается размести путь к солнцу.
Тан встает со ступеньки и начинает идти к секретарю. Тот как раз захлопывает дверцу. Тан-Тан не сдерживает улыбки, когда господин Ли замечает её, опуская очки чуть пониже. Его взгляд заставляет Тан собраться. И без того гордая осанка становится еще ровнее, сама девчушка шутливо отдает секретарю честь.
Вместо приветствия, тот слегка приобнимает её, заставляя идти в ногу к тёмно-красному камню здания. Хенг с ленцой тянет:
— Отдала ему автомат, значит…
Девушка только фырчит, пожав плечами. Мастер Ли как раз отпускает её. Мужчины у входа бросают свои дела, кланяются секретарю Ли, тот слегка наклоняет голову в знак приветствия. Тан-Тан следует за ним по просторной кухне, поворачивает в первый из коридоров. Хенг задает вопрос более серьезным тоном:
— Как настроение у главы?
Тан снова начинает идти рядом. Она улавливает запах миндаля от господина Ли, это странно, такой запах кажется тяжелым и густым. Может, сменил духи?
— Сложно сказать. Он спокойный, как и всегда. Всё обычно.
Ли Хенг слегка сощуривает взгляд, но никак это не комментирует. Коротко глянув на Тан, он подмечает её слегка порозовевшие с чего-то щеки.
— Ты была рада встретить Ванцзе?
— Конечно, мастер Ли.
— Хорошо.
Они проходят через очередной вестибюль, теперь перед ними разворачивается первая из лестниц. Хенг снимает очки, вешая те за дужку в вырез рубашки, расстегивает манжеты и зачем-то их закатывает.
— Тебя никто не обижает тут? Новенькие не все понимают, кто ты.
— Теперь уже нет, мастер Ли. Я достаточно четко все объяснила.
Хенг усмехается и кивает, на другой ответ он и не рассчитывал. По пути они встречают то мелких слуг, то людей рангом повыше. С некоторыми Хенг задерживается, у него пытаются уточнить детали или осмеливаются просить разузнать что-то у главы. Конечно, не напрямую, а как-нибудь косвенно. Хенг слушает, отвечая по ситуации. Чем ближе к кабинету господина Ханя, тем он всё больше замедляется. Когда до нужной двери остается один коридор, секретарь Ли стягивает резинку с волос, позволяя тем рассыпаться по плечам. Останавливается. Зачесывает упавшие на лицо пряди назад, а затем вручает резинку Тан-Тан. Та принимает ее на автомате, чуть удивленно смотря в лицо секретарю. Тот не отвечает на этот взгляд, бросает «дальше я сам» и «спасибо».
Тан-Тан только кивает, отходя на шаг. В этом жесте было что-то, что никогда прежде Тан не замечала. Кажется, секретарь Ли отчего-то нервничал.
Не дав себе думать долго, Тан принялась рассматривать резинку. Обычная, черная резинка для волос. Чуть улыбнувшись, Тан-Тан оставила ту на своем запястье и пошла в обратную сторону. В окна коридора заглянул солнечный свет, Тан Тянь решила обернуться. За секретарем Ли закрывалась тяжелая дверь.
х х х
— Утром читал, что Малькольм Йо… был найден мертвым. Выбросился из окна. Твоя работа?
Хань Фэй не оборачивается, когда спрашивает. Заложив руки за спину, он наблюдает за игрой ветра: тот задевает макушки гибкого бамбука, там, вдалеке, носится раненным зверем в плоскости туч, разгоняя серость. Массивная дверь глухо щелкает, темный паркет принимает размеренный стук каблуков. Секретарь Ли встает рядом. Двери на балкон распахнуты, так что ветер добирается до его волос. Секретарь не закладывает руки за спину, он складывает те на груди, тянет:
— Он не хотел отдавать бизнес добровольно, этот генеральный директор почему-то подумал, что нанять пару киллеров проще, так что… трагично. Надо было так оступиться.
Хань Фэй слегка усмехается. Ему нравится двоякость последней фразы. Он наконец-то смотрит на Хенга, но тот пока не отвечает взаимностью. Смешной. Фэй разворачивается к столу. Не особо заботясь о внешнем виде в стенах дома, он лишь накинул поверх пижамы атласный халат, босые ноги ощущают неровности старого паркета, вскоре их сменяет мягкость ковра — Фэй садится в кресло и кивает на то, что напротив. Хенг медлит, но всё-таки садится. Решает продолжить в более серьезном тоне:
— Я предлагаю на роль генерального директора кого-то из старших сыновей Фа. Лучше Фа Гочу. У него есть опыт в этом бизнесе, небольшая тайская компания по полупроводникам, пусть эта вроде как поглотит его, а он встанет во главе…
— Кто был исполнителем этой казни?
Ли Хенг, всё это время продолжавший рассматривать вид из окон, поворачивается, чтобы встретиться взглядом с господином Ханем. Обычно его такие детали не волновали. Можно было бы уточнить, что не так, если это не просто любопытство, но опыт научил, что лучше просто отвечать на поставленные вопросы.
— Люди Черного Дракона, он должен мне, так что…
— Потому что ты вытащил его из каталажки в Бангкоке. Какие еще связи с таиландской триадой у нас есть? И что с Гонконгом?
Хенг не успевает перехватить свою мысль, когда медленно переспрашивает: «А что у нас с Гонконгом?». Положа руку на сердце — им бы с материком разобраться, о таких пока что далеких локациях, как Гонконг или Таиланд Хенг не думал вовсе. Хань Фэй, упираясь локтем в подлокотник, почесывает по щетине и задумчиво уводит взгляд. Хенг уже различает некие оттенки в человеке напротив, и то, что он видит, заставляет чуть наклониться вперед и не терять фокус. Небо, что еще он задумал? Фэй понижает голос, размышляя вслух:
— Группировка «Красный песок» подавляла протесты в Гонконге. Безжалостнее, чем полиция, хоть, многие были переодеты в них же.
— Так… ну, это не наше дело, да и частая практика, особенно у мелких банд…
— «Красный песок» был частью триады, как мне помнится, еще со времен первых подпольных школ багуа на севере… с каких пор часть триады танцует под заскоки партийных рож?
Хенг плавно откидывается на спинку кресла и продолжает смотреть на главу. Хочется сказать, что заскоки тут не только у партийных рож, но и у кое-кого конкретного. Секретарь Ли мажет взглядом по кабинету, подмечает два стакана на столе — один пуст, другой наполовину полон чем-то темно-красным. Вряд ли это сок.
Хенг смотрит на него, задавая вопрос, и только под конец переводит взгляд обратно на Фэя:
— Так тебя задевает то, что предполагаемая частичка триады, которая может ею и не быть уже давно, но явно пользуется этим статусом… выполняет за деньги или сделки работу силовиков?
— Это надо исправлять. Триада диктует правила, и триада ведет бизнес. Надо разграничить, чтобы рты не смели открывать и гадить на это имя, если ведут себя так. Эти падкие на дешевую власть сморчки, какая сделка стоит того, чтобы идти у них на поводу… требуха собачья в костюмах.
— Костюмы, я так смотрю, не твоя любимая тема…
— Триада строится на кодексе, Хенг. Кодекс берется из школ боевых искусств, и не в одном из них не было прописано «будь рабом господ». Там написано: «Будь ответственен за свою свободу и будь предан семье». Все начало разваливаться тогда, когда кодексы были забыты. Свобода стала хаосом, и где все оказались? «Красный песок», Хенг… они имели власть, которая нам и не снилась.
Хенг позволяет себе резкий выдох. Если приглушить то, что несет сейчас Хань Фэй, а лишь смотреть — зрелище заманчивое. Разлет темных бровей, что сейчас нахмурены, пальцы, сжимающие подлокотник, четкий абрис скул, темные глаза, в которых за дымкой задумчивости, плещется сдерживаемое пламя. Хенг уже такое видел.
После этого последовал ряд выстрелов в неугодные головы.
Секретарь Ли снова подается чуть вперед, в надежде, что сможет переключить голову Хань Фэя на что-то более насущное, но тот внезапно смотрит на него и припечатывает совершенно другим тоном: фатально спокойным.
— То, что ты трахался с Черным Драконом было частью сделки или приятным бонусом?
Хенг замирает всем телом, приоткрыв губы в недосказанном. Слышится собачий лай. Ветер заглядывает в распахнутые окна, вьется грубой лаской, заставляя кожу покрыться мурашками. Секретарь Ли не замечает, что уже сам сжимает подлокотники в нервном спазме. Губы растягиваются в усмешку, он говорит медленно:
— Я уже говорил, что люблю трахаться. И говорил, что не вижу проблемы в том, чтобы спать с тобой, раз уж всё к этому шло. Это ты сказал, что во мне недостаточно серьёзности. И ушел. Не знаю, что тебя так гложет, что ты стал грезить всевластием, возрождением старых традиций во всей красе, но… Что угодно, Фэй, если поможет восстановить триаду и дать ей работать, я делаю и сделаю всё что угодно… но я не понимаю, какая тут связь.
— Часть сделки или бонус?
— Не твое дело.
— Ты трахаешься с ним сейчас?
— Нет. Я ни с кем не трахаюсь. И давно. С недавних пор я даже сам себя трахать не могу, чтобы о твоей роже не подумать. Делаю успехи в своей зависимости от секса, Фэй, ты — лучше таблеток, только побочек побольше будет. Ублюдчивая ты мразина.
Хенг говорит себе, что не жалеет: эта короткая тирада слетела с языка так просто, удержать её было нереальным. Хань Фэй смотрит на него все так же спокойно, он сменил позу в кресле, теперь сидя в нем более вальяжно. Хенг отводит взгляд. К ветру примешался дождь. Легкая морось касалась щеки.
— Секс для тебя ничего не стоит. Мне нужно кое-что ценнее.
— И что же это?
Хенг находит остаток сил, чтобы вскинуть голову и снова посмотреть на главу Хань. Тот молчит, рассматривая его так, как делал уже не раз. От этого особого взгляда Хенг все чаще чувствует себя больным: жар накатывает к лицу, неприятная слабость растекается по рукам, губы хочется облизать, ощущая их внезапную сухость, у желудка селится что-то вязкое и тяжелое. Это не тот взгляд, которым обычно его одаривают, желая снять, не тот взгляд, когда его пытаются соблазнить. Не такой наглый и примитивный. Это что-то куда сильнее, чем просто «желание сожрать».
Хенг почему-то думает, что так смотрят наоборот сытые львы. Но что это тогда значит? Глуповатой добычей быть не хочется вовсе, Хенг вскидывает брови, все еще ожидая ответа. Хань Фэй говорит тише, остановив свой взгляд где-то у губ Хенга:
— Ты похож на ловчую птицу. Которую еще нужно приручить. Только без клетки. Такие, как ты, там умирают.
За окном шумит ливень. Хенг плавно встает с кресла, пройдя к столу, он кладет на него золотистую флешку. Фэй знает, что на ней, лишних слов не требуется. Секретарь Ли собирается уходить, бросая дежурную фразу: «Ожидаю новых поручений, на сегодня у меня еще запланировано несколько встреч…».
Фэй говорит, когда Хенг уже подходит к двери:
— Даю Ванцзе еще три дня на Пекин. После его и архитектора ждут в Хунани, пора набивать дракона, да и охранять в той глуши проще. И да, Цаи объявили нам войнушку.
Хенг нажимает на ручку, но оборачивается.
— Цаи? Войнушку?
— Старик расценил мой жест как слабость, мой просчет, кто знал, что он и правда выжил из ума… Так что, высокая готовность и стрелять на поражение без разбирательств. Гордыня, Хенг, тяжкое бремя. Согласен?
Хенг смотрит в лицо главы, затем слегка кивает и добавляет: «Слушаюсь, господин».
Всё-таки надо было застрелить Цая, когда был шанс. Цая старшего, конечно же.
Пекин
Судьба не была к нему благосклонной. Он родился в сыром подвале, долгое время не в силах видеть свет. Его мир состоял из запахов.
Самым ярким из них был запах матери. Мягкий и обволакивающий, в нем он находил спокойствие и безмятежность.
Вслед за ним всегда шло не только тепло, но и съестное. Он был жадным, стараясь урвать побольше. Затем он спал, а потом снова искал тепло и свет. Глаза понемногу открывались. Но чем чаще он делал это, тем меньше тепла и запаха матери становилось. В один особенно холодный день, он постарался вылезти на свет, туда, откуда веяло чем-то новым. Почему-то казалось, что вместе с этим светом можно добыть и тепло. Не такое приятное, как с матерью, но… в подвале были не только они. Те, что пахли совсем дурно, подбирались все ближе. От них веяло опасностью.
Что-то гнало к свету, что-то сильнее, чем желание спрятаться. И он выполз.
Запахи оглушили, гонимые ветром вперемешку с пылью. Он чихнул и тут же пискнул, полностью дезориентированный. Мать должна услышать, она обязательно должна услышать…
Что-то подсказывало: как бы ни устал, не стоит останавливаться там, где ты есть. Нужно спрятаться. Глаза уже не хотели смотреть на яркий свет, хоть тепло тот и правда дарил. Нос устал пытаться различить что-то съестное. Тело устало передвигаться. Сон наваливался неумолимо. Он забрался всем своим тельцем в небольшое ущелье, там хотя бы не было ветра.
Свернувшись как можно компактнее, он выдохнул и закрыл глаза. Вовремя.
В Пекине начался дождь.
х х х
Лощеный ворон тяжело сидел на нижней ветви клена. Точеный клюв смотрел в небо. Когда они подошли ближе, ворон, словно дождавшись, смерил их коротким взглядом и вспорхнул ввысь, добавляя к своему жесту кусачее карканье. Сяо Чжань проследил за его полетом, пока тот не скрылся вовсе.
На решетке круглой печки лежал батат.
Сухенький дед, пытаясь расслышать Ибо, подался вперед, повернувшись к нему ухом. Ибо хотел две порции и уже даже выбрал, какой именно батат они возьмут.
Сяо Чжань скосил взгляд правее: в паре шагов стоял Медведь. Сунув руки в карманы черной дутой куртки, он сканировал улочку ровным взглядом. От одной его фигуры поблизости веяло каким-то твердым спокойствием. Словно за тобой по пятам ходит скала, всегда готовая принять удар. Чжань вернулся взглядом к Ибо. За месяц с небольшим тот, казалось, раздался в плечах и чуть ли не стал выше. Специально говоря погромче, он поддакивал деду, тот рассуждал о погоде.
Мол, говорят, если март такой холодный, то значит лето будет очень жарким. Сяо Чжань мысленно согласился и подошел ближе. Протянув руку, он скользнул к пальцам Ибо, чтобы тот инстинктивно сжал их в ответ, при этом, продолжая кивать на слова дедули. Тот не обращал на них никакого внимания — шпатель, который был создан для отделки стен, ловко переворачивал сладкий картофель.
От угля изредка взвивались искры. Чжань стоял к Ибо как можно ближе, словно в поисках тепла, не совсем отдавая себе в этом отчет. Он проснулся крайне рассеянным, и, честно говоря, совсем недавно. Новый ритм жизни разбаловал его, и теперь, чтобы действительно проснуться, ему требовалось больше времени. Они провели большую часть ночи в разговорах, и если начало их было весьма серьезным, то ближе к рассвету они уже лениво спорили о какой-то чепухе. Кажется, про супергероев и концовке «Великого мастера». Ван Ибо искренне считал, что Ип Ман был слишком благородным по жизни, в ответ на что Чжань утверждал, что не будь он таким, он не был бы Ип Маном. По правде, Чжань понимал, что Ибо готов «спорить» о чем угодно, просто потому что его забавляет реакция. Так было всегда. Чжань думает про «всегда» еще раз, пытаясь подсчитать, сколько же это «всегда» на деле длится. Ван Ибо вручает ему горячий картофель в дополнительном шаре фольги, Чжань отвлекается и бросает затею с подсчетом. Какая разница, как долго длится «всегда», а вот батат горячим «всегда» не будет. Ибо тянет его за локоть дальше по улице. Медведь сохраняет чинную дистанцию. Чжань осторожно пробует оранжевую мякоть, от нее идет густой пар. Мелкий снег, достигая его завитков, тут же тает.
— Один мастер, когда выводил нас гулять в город, еще чем-то вечно посыпал, какой-то специей…я, кстати, не заметил, в Чунцине зимой так батат не продают, да?
Сяо Чжань жует и отрицательно мотает головой. По правде, в Чунцине его детства батата было как-то не очень много, и он был фиолетовым. Чжань видел его маринованным в небольших банках, его могли добавить к рыбе или птице, изредка есть как лакомство. Чунцин не нуждался в горячем сладком картофеле, который так приятно грел замерзшие пальцы. Чунцин нуждался в большом количестве перца и холодных фруктовых супов в пластиковых стаканчиках. И если уж было прохладно, то люди просто добавляли больше чили в лечебные каши.
В этот раз Ибо тянется к его руке, сначала прихватывая у кисти, затем сплетая пальцы. Он продолжает говорить, при этом все еще жуя:
— … брат особый батат любит, он его вместе с хурмой мешает… Вообще, Хань-гэ в еде странный. Рыбу больше мяса любит, от простых булок тащится… вымакивает ими соусы…
Сяо Чжань пытается это представить и невольно улыбается, качая головой. Это утро кажется таким обычным и нереальным одновременно. Чжань, продолжая слушать Ибо и его рассуждения о батате, старается подметить детали. Архитектор внутри него автоматически отмечает характер пространства: продолговатая коробка улицы, бетонная проезжая часть, на тон темнее узкий бордюр, тут уже идут блоки плиток, затем на два тона светлее — серые стены низеньких домов, где располагаются швейные мастерские, маленькие ресторанчики, парикмахерские и услуги по ремонту велосипедов. За ними виднеются здания повыше, такие же серые и обтесанные, они могут похвастаться разноцветными кляксами сушки белья, рекламными вывесками и крепко закрученными жгутами линий электропередач. Людей в это утро почему-то мало, наверное большая часть живущих в этом квартале рано ушли на работу. Мимо тарахтят мопеды, реже — машины и груженые тачки. Это Пекин, но далекий от центрального лоска или размаха новых спальных районов. Чжань думает, что ему непривычно гулять по прямой, никаких подъемов или спусков. Скоро начинает накрапывать. Чжань все ещё жует батат, когда поднимает голову — к мелкому снегу и правда примешалась вода. Верный признак начала весны в Пекине или это просто обманка? Тут же слышится шелест, затем глухой хлопок — Ван Ибо открыл над ними зонт, вместо белёсого низкого неба, Чжань видит плотную черную ткань. Он удивленно поворачивается к Ибо, вопросительно вскинув брови. Тот пожимает плечами:
— Медведь подбежал и вручил, у него два с собой…
— Он же только в куртке, откуда…
— Ну, у его людей с собой? Не заморачивайся. Ты сегодня какой-то тихий совсем… все в порядке?
Сяо Чжань кивает и мягко забирает зонт из руки Ибо, поясняя коротким: «Ну я же выше». Ван Ибо отвечает усмешкой и шепчет «да что ты», но зонт забрать обратно не пытается. Чжань решает включиться в жизнь чуть больше. От батата остается совсем ничего, он сжевывает остаток вместе с темной кожуркой, прищуривается:
— На горизонте мусорки не видно, да?
— Да отдай мне, у меня карманы глубокие. Выбросим потом…
Сяо Чжань согласно мычит. В планах ничего особенного и не было, разве что «кино на вечер». Ибо демонстрировал необычайное рвение «делать все, как обычная пара», ему это очень нравилось. Чжань напоминал себе, что для того это, по сути, первые отношения. Если подумать, то он может считать так же. То, что было с Джеймсом… Чжань натыкается на мысль «так кто все-таки его убил?», но не дает себе на ней задержаться. Это никак не связано с ним, раз он жив, так ведь? А сколько тайн было у Джеймса, только ему и известно. Это уже давно не его дело, если вообще хоть когда-то было. Ван Ибо сжимает его пальцы в своих крепче, тянет на себя, когда мимо пролетает велосипедист. Почему-то игнорируя проезжую часть, тот решил рассекать среди пешеходов. Чжань слегка пожимает плечами, в то время как Ибо не жалеет крепкого слова в удаляющуюся спину. Чжань усмехается и вдруг подмечает старого знакомого: ворон, что совсем недавно восседал на ветви клена, колупается клювом в трещине дома. Чжань прищуривается, отпускает руку Ибо и подходит ближе, присаживается на корточки. Он скорее услышал, чем увидел. Тонкий непрекращающийся писк. Рядом опускается тяжелый ботинок — Ибо решил шугануть птицу, говоря при этом:
— Гэ, ты просто жесть, ты знаешь, что такие вороны могут быть агрессивными? Я сам видел, как один такой в шею мужика клевал…что ты тут…
— Тихо.
Писк не прекращался. Слишком громко и выразительно для того, чтобы это была мышь. Чжань решает растянуться по бетонной плитке, не жалея ни светлые джинсы, ни ветровку. Подсвечивая себе телефоном, Чжань заглядывает в цементную нору. Глаза-бусины светятся, словно отражатель. Писк из заунывного становится резким и коротким — котенок пытается втиснуться все дальше, да некуда.
— Ты что там делаешь, гэ…
Шепот оказывается куда ближе. Ибо почти что умостился рядом. Картина со стороны наверняка навевала мысли о вызове психиатрической скорой, но невозмутимый японец, стоящий рядом, отбивал всякое желание помочь неадекватным людям. В конце концов, они в свободной стране живут, захотелось полежать — так что уж. Сяо Чжаня забавляет, как Ибо хмурится, но времени терять нельзя. Котенку нужно помочь.
— Там котенок. Есть идеи, как выманить?
Ван Ибо издает какое-то фырчание, говорит подвинуться, забирая телефон и светит в «нору» уже сам. Котенок снова переходит в унылую трель, явно привыкший к пытке светом. Ван Ибо вздыхает, затем садится на асфальте и дергает Медведя за штанину.
— Нам нужно выманить котенка. Пусть кто-то сбегает за едой? Мясо там, я не знаю…
— Молоко?
— Нельзя им молоко.
— Понял.
Сяо Чжань все наблюдает за котенком. Дождь усиливался. Неприятно. Чжань встает, тянет на себя и Ибо, говоря, что они себе простудят жопы. Резонно. Медведь продолжает стоять рядом, совершенно невозмутимо держа зонт. Люди принимаются прикрываться от дождя кто чем горазд, зонты раскрываются все чаще, люди на мопедах натягивают на себя целлофан дождевиков. Мир шуршит и шумит. Чжань приваливается к стене, над ними небольшой навес, местами дырявый, но лучше, чем ничего. Чжань пытается нащупать паттерн — он прекрасно знает, что их охраняет довольно много людей, но где они и кто? Через время к Медведю подбегает девчушка лет десяти, вручая пакет с кошачьими лакомствами. Мужчина кивает ей, и та бежит дальше по улице. Красные кроссовки, детский дождевик с покемонами. Чжань провожает ее взглядом до угла и не сдерживает непонимающего шепота:
— Что за… А это…
— Итак, у нас есть чем выманить котенка…
Ван Ибо не обратил на эту сцену никакого внимания, сцапав из рук Медведя пакет. Он опускается на корточки, в этот раз не решаясь портить штаны. Просунуть лакомство поближе не выходит, но тут помогает Чжань — его ладонь уже. Последний кусочек, резко пахнущий говядиной, кладется уже на выходе. Остается ждать.
Чжань выпрямляется синхронно с Ибо, и все так же синхронно, они пялятся на выход из «пещеры». Писк затихает. Момент истины пропустить не хотелось бы, но если бы кто-то из них обернулся, мог бы заметить: Медведь поворачивал пару раз голову, чтобы тоже глянуть, удалось ли выманить котенка. Ибо почему-то шепчет:
— Мы же его заберем, да?
— Конечно. Мы его спасли, мы его и заберем.
— Обо мне ты тоже так думал?
Чжань поворачивается к Ибо и ловит его усмешку краем рта. Такая метафора того скорее забавляет, чем обижает. Чжань усмехается в ответ и шепчет «с котенком будет проще». Ибо наклоняется к нему ближе:
— С чего бы?
Сяо Чжаню не дают ответить. Снизу раздается резкий и громкий писк. Котенок вылез и он не очень доволен. Неудивительно. Не жизнь — а сплошной стресс. Слева раздается низкий голос Медведя, его китайский отрывочный и грубоватый:
— Такой маленький. Как орешек.
Сяо Чжань не верит своим ушам и вскидывает голову.
— Так ты все-таки знаешь китайский? Я знал! Я знал это! А я ведь для тебя всегда субтитры искал!
Медведь просто смотрит на него в ответ. Ван Ибо пытается сдержать смех, в этом ему помогает котенок — он берет его на руки, стараясь быть бережным и осторожным. Он не успевает попросить — Чжань уже расстегивает его куртку, чтобы котенка можно было спрятать в тепло. Серо-белый комочек, в тепле он сразу затихает, но продолжает смотреть то на Ибо, то на Чжаня. Последний улыбается, поглаживая котенка от розового носика по белой полоске вверх, затем чешет за ушком.
— Орешек так Орешек. Согласен? Назовем так?
Ван Ибо кивает, а затем резко тянется вперед, чтобы поцеловать Сяо Чжаня куда-то у губ. Медведь на них уже не смотрит, но встает перед, заслоняя собой обзор, опустив зонт пониже.
х х х
На той стороне улицы мужчина небольшого роста плотнее кутался в плащ, наблюдая за этой троицей. Под капюшоном скрывалось по-печеночному желтоватое лицо, явно изможденное бессонными ночами. Мужчина продолжил свой путь до конца улицы, дождь усиливался, а стоять на месте еще дольше — вызвало бы подозрения.
Лакомый кусок заказа ускользал из-под носа. Хорошо, что охота объявлена в узких кругах. Он доберется до всех этих уродов первым. Кроме денег, у него есть и другая цель.
Более личная и весомая. Он обязательно до всех доберется.
Ему нужно еще немного времени.
Снег становится все мельче, а капли — все крупнее. Вскоре на Пекин обрушивается ливень. Настоящий, грязный и весенний ливень.
17. 晨星墨水
XVII.
But I have wanted, As I want when I look at the painting, To house my body.
I have wanted the kind of grace God gives Only to the drowned;
— Terrance Hayes
х х х
Юг, Хунань
Чтобы попасть в деревню Моушей, нужно съехать со всех дорог и сойти со всех троп, что ведут к городам и туристическим видам. Это — главный критерий поиска, если не уверен в своем маршруте. Хороший асфальт? Вам точно не туда. На определенном отрезке пути лучше вовсе выйти из машины, если не знать тайной дороги, огибающей зубья скал.
У жителей этой деревни черные ладони. Часто и стопы. На главной площади нет стандартной коробки «дома культуры», там все ещё стоит единственная крупная постройка (в три этажа) на мили вокруг. Она полна копоти. Сотни масляных ламп горят внутри, вылизывая медные полусферы, оставляя на них свой черный след. Его бережно счищают в массивные бочки. Это один из самых главных ингредиентов будущих чернил. Черный порошок сажи масляных ламп. Он соединится с животным клеем, который варят в огромных чанах соседнего помещения. Эту массу будут месить ногами, удерживаясь за деревянные перекладины, затем утрамбовывать в продолговатые деревянные коробы, покрывать золой дубовых деревьев ради сушки, а затем подвешивать за нити, чтобы чернила «настаивались» минимум год.
Чем дольше те хранятся, тем дороже их цена.
Чем дольше те хранятся, тем темнее цвет и плотность.
У жителей деревни черные стопы и черные ладони. Густой и тяжелый запах клея въелся в стены и волосы, пропитал одежду, вопреки тому, что в чаны, где тот варится, всегда добавляют эссенцию жимолости. По молодости многие стремятся уехать из Моушей, но возвращаются. Чернила стоят дорого. Дети деревни Моушей растут, зная цену саже. Чаще всего ладони родителей всегда кажутся серыми, а некоторые из стариков уже и не пытаются отскоблить кожу. Это печать, это знак. Это след того, что даёт им жить достойно из поколения в поколение.
Молодые люди вспоминают об этом, когда мир вне границ деревни становится особенно чуждым, а жизнь — тяжкой в своей бессмысленности и погоне.
Жители деревни Моушей никогда не прощаются со своими детьми, как бы далеко те не собирались уехать. Они знают, что дети либо вернутся, оставаясь с каждым праздником все дольше «в гостях», либо, не приезжая ни разу, придут под отчий дом навсегда. В конце пути. Они всегда вернутся.
Тайное знание чернил ощущается тяжестью, когда они далеко. Запах клея и жимолости больше не кажется душным. А сажа, что въедается в кожу, перестаёт походить на грязь. И чем ближе к родным тропам, тем всё легче. Густота уступает место потоку.
И белые ладони становятся черными по зову сердца.
Именно сюда приезжали те, кто привык огибать главные дороги. Казалось, что традиция эта была забыта и последний, кто был здесь, закончил свой путь. Но в деревне Моушей никогда не верили официальным новостям. Жителей отличал острый ум и умение молчать. Они создавали уникальные чернила по древним методикам, их чернилами писались законы Поднебесной, их чернилами выписывали тайны дворцов и гробниц, их чернилами заполняли Книгу Перемен. Когда же неизбежные переломы истории заставили Китай мучительно меняться до основания, они скрылись, но их чернила продолжали жить. Люди, что знали их цену и смысл, не могли позволить искусству пропасть. Деревню спрятали от зорких глаз. Небывалый порыв общей цели (сохранить во что бы то ни стало) для триады и якудза позволил продержаться в темные времена. Ценители истины не дали обнаружить поселение и алым ищейкам культурной революции, хоть то располагалось у «сердца» председателя Мао, в его родной провинции — к тому же, дорога до Моушей делала свое дело.
Люди оступались на узких тропах, соскальзывали с подвесных мостов, погибали, придавленные серыми глыбами, что откалывались от острых скал, даже не подозревая, что существовал путь куда проще.
Правда, сквозь горы. Через пещеры. Что со временем стали вполне надёжным туннелем даже для грузовых машин. Спрос на чернила никогда не угасал.
Деревня была благословлена.
Небо не хотело, чтобы деревню тревожили.
Небо выстроило всё так, чтобы этого и не случалось.
х х х
Дорога шла вверх с того момента, как они съехали с главного шоссе. Большую часть времени Ван Ибо наблюдал за тем, как ерзает и елозит Сяо Чжань, устраиваясь на сиденье удобнее. Кресло пришлось максимально отодвинуть назад, спинку — отклонить. Один раз Сяо Чжань даже попытался закинуть ноги поверх панели над бардачком, но потерпел фиаско. Его кряхтения веселили Ибо, но он мужественно отказался от комментариев, лишь попросив поберечь поясницу.
Всё это могло напоминать поездку куда-то за город ради свежего воздуха и каких-то туристических увеселений. Забыться было достаточно легко, если игнорировать тот факт, что их черную ауди сопровождало по четыре классических джипа из фильмов про гангстеров. Один спереди, один сзади. Двое по бокам, когда позволяла дорога. Сейчас те выстроились по два спереди и сзади, следуя по довольно узкой полосе. Асфальт стал бетоном, затем бетон начал всё чаще уступать гравию, а тот мешался с сухой глиной.
Мир же вокруг полнился холмами и песчаными пиками, поросшими зеленью. Честно сказать, Сяо Чжань заранее простился с жизнью пару раз. Двадцать минут назад даже вслух — участились повороты. Чжань старался не думать о том, что возможно скоро от видов будет захватывать дух не из-за красоты и ассоциаций с фантастическими фильмами или легендами о Короле Обезьян, а потому что справа от машины будет пропасть. Ван Ибо продолжал благоразумно молчать, хоть на самом деле нервишки шалили. Но не из-за возможной высоты. Он знал, что впереди туннель. И не был уверен, что в нем есть хоть какое-то освещение. Глупо, он ведь ездил по ночам, есть фары, в конце концов, но гнетущее чувство тьмы… да и титановая тяжесть скал…
Перспектива так себе. Но это лишь оправдание. Никакая тяжесть скал не сравнится с тем, что можно обрести камнем на сердце. Ван Ибо знал, что вопрос не имеет особого смысла. Но всё же.
— Успел пожалеть, что пошел за мной?
Для шутки Ван Ибо звучит неожиданно тихо. Речь явно идёт не о том, что они в какой-то живописной заднице провинции Хунань. Сяо Чжань поворачивается к нему, чтобы уловить выражение лица, но там пусто. Что на самом деле говорит о многом. Пустота наползает поверх глаз в виде маски, становится белым шумом, мешающим передаче сигнала. Ван Ибо так закрывается. Снова.
Он немигающе наблюдает за джипом впереди себя. Ему и за руль дали сесть только по причине того, что скорость передвижения будет неукоснительно регулироваться. Чжань не знал, что Ибо на самом деле фанат погонять. Если подумать, он все ещё не знал о нем почти что… ни черта. Не было конкретики и в том, чем занимается «клан» которому тот не просто принадлежит — он будет им управлять. Не было понимания, как Ибо видит жизнь в целом, кроме как — он видит в ней Чжаня рядом с собой. Пугало, что ему только этим летом будет двадцать, а внутри, и это чувствуется, все четко выстроено и распределено, только что именно — не увидеть. Иногда дверь приоткрывается внезапным откровением или какой-то нежной глупостью. Жестом, как та поездка в Пекин. Взглядом, когда Сяо Чжань только открывает глаза по утру.
Или эта стена идет трещинами, как сейчас. Из-за неуверенности.
Сяо Чжаню кажется, что его наличие в жизни Ибо вносит хаос. Заставляет всю четкость линий внутри Ван Ибо идти рябью. Невольно думается — а что с собственным чертежом жизни? Помнится, Чжань стёр его и грязным оставил в голове и сердце. Затем пришел Ван Ибо и заменил былое на чистый лист. Сяо Чжань наточил карандаш и все ещё смотрел в него, в этот лист, но если давал волю рукам, вместо схем получался портрет человека слева. Который все ещё ждет ответа.
Что это и правильно ли это? А на сколько «правильность» важна и кто её судья?
Сяо Чжань слегка усмехается, Ибо все не смотрит в ответ. Он тянется к его руке, что сжимает руль, чтобы коротко похлопать. Мол, смотри на меня. Ибо поворачивается. Сяо Чжань не пускается в объяснения, лишь мягко говорит суровое слово «никогда». Добавляет «и не собираюсь».
Ван Ибо чуть морщится. Чжань предугадывает его «ты не можешь знать», и продолжает:
— Никто ничего не может знать наперед, Ибо, но в моих планах точно нет сожалений. Они слишком дорого обходятся. О чем ты говорил со старшим братом перед отъездом? Ты загрузился. Скоро морщины появятся.
— Тебя это должно обрадовать, больше не будешь сокрушаться, что ты для меня слишком стар.
Сяо Чжань шипит «засранец», но улыбается, также смотря вперед. Он сказал это всего раз, когда после оргазма начал отрубаться так, словно его из розетки выдернули. Ван Ибо запомнил. И потешался. Подкалывать друг друга стало их языком любви, иногда вводящим в ступор окружающих. Даже невозмутимый Медведь предпочел покинуть их автомобиль на одной из заправок, а это говорит о многом.
Ван Ибо явно не спешит отвечать на вопрос о разговоре с Хань Фэем.
Заставлять Чжань не собирается, пусть так.
Он переводит взгляд на навигатор — на нем отобразилась 3D модель будущей горы, в которой зияла дыра туннеля. До него оставалось полчаса езды. Желтая стрелка приглашающе лежала на ленте дороги, на ней таяли метры, ведя обратный отсчет.
— В этой же деревне набивали дракона и Хань Фэю?
— Да. Начали в четырнадцать, потом он рос и там вносили правки. Может и хорошо, что я уже… вырос.
— Тебе правда понравился эскиз?
Ван Ибо даже фырчит. Смотрит на Чжаня, кивает с уверенным «конечно, гэ».
Это ведь не шутки.
— К тому же, эскиз одобрил и Хань-гэ и Ли-гэ, так что… Хоть я бы набил его в любом случае. Мне нравится. Но не нравится, что ты не показываешь свой.
Сяо Чжань чуть пожимает плечами и Ибо слышит «увидишь, когда уже набьют» опять. Он объяснял, что в деревне набивать тату ему будут не в один присест и классическим способом — иглами, без тату-машинки. Сяо Чжаню вовсе не нужно проходить через это и они могли бы просто сходить в салон как-нибудь. Но тот неожиданно упёрся рогами, ничего особо не объясняя. Единственное, что Ибо удалось выведать — татуировка не будет большой, как они и договаривались.
— Это будет больно.
Ван Ибо решает напомнить об этом. Дорога перестает идти вверх, выходя на некое плато. Гора надвигается на них, вскоре гравий с глиной обратно сменяются бетонными плитами. На их стыках машину слегка подкидывает, это «радует» заднюю подвеску глухими ударами.
— Я знаю. Тебе будет больно, мне будет больно. Нам будет больно. И что?
Ван Ибо поворачивается, чтобы уловить взгляд Чжаня, тот смотрит в ответ. Никто из них не уверен, что они говорят действительно о тату. Первым молчание нарушает Чжань с легкой улыбкой шепча «включай фары». Ибо отворачивается. Первый из джипов уже заехал во тьму, разрезая ту своим светом. Ван Ибо подавляет желание вздохнуть, вместо этого прочищая горло, включает фары. Рука Сяо Чжаня оказывается на его руке, когда тот опускает ладонь на коробку передач.
Туннель длинный, узкий и темный. Он всё длится и длится.
Всё это время Чжань не отпускает его руки.
х х х
Дракон степенно взмывал ввысь, смотря с грозным оскалом, его извилистое тело обволакивал густой дым. Благодаря игре света и тени дракон казался объемным. Старик Ло вдумчиво рассматривал эскиз перед собой, прослеживая каждую черту и штрих, не прикасаясь к бумаге — он заставил младшего из учеников держать лист напротив окна, чтобы солнечные лучи просвечивали его почти что до прозрачности. Дым на эскизе был исполнен в традиционной технике, настоящий же дым плыл по комнате плоско, закручиваясь куда реже. Старик Ло курил золотистую кисэру, которая, стало быть, в прошлом набивалась отнюдь не табаком. Чжань скорее следим за ней, чем за лицом старца. Вокруг было достаточно вещей (начиная с мебели и бронзовой лепнины с головами животных по стенам, заканчивая подушками, на которых они сидели) чтобы пополнить средних размеров музей.
Словно они перенеслись в далекое прошлое или же оказались на съемочной площадке исторического фильма.
Старик Ло издал звук, то ли задумчиво мыча, то ли передумывая что-то говорить. Сяо Чжань перевел взгляд на ученика — мальчику на вид было лет двенадцать. Белая футболка найк и серые джинсы казались чуждыми всему антуражу, как, собственно и они с Ибо. Старик же был одет в ханьфу, правда, его простота сбивала с толку — будто бы Ло Яочунь действительно ходит в этом в повседневной жизни, и это простой вариант для каждого дня из легкой ткани. Видимо, так и было. Сяо Чжань попал в какой-то мир двух измерений, где настоящее смешалось с далёким прошлым, и сосуществовало в каждой детали.
За стенами дома Ло шумно: народ обступил людей Хань, наперебой уточняя новости по триаде, предлагая кушанья (каждый в своем доме, стремясь заманить мужчин, особенно те, кто имел дочерей), и в целом выражали радость от события. Событием оказалось нечто, что они окрестили «Праздник рождения Дракона». Наивному предположению, что они едут в какую-то деревеньку ради татуировки, где не будет особых благ цивилизации, зато возможна встреча с антисанитарией (по этой причине Чжань напихал в сумку антисептики и заживляющие мази) пришел конец. Где была футболка найк, думается, есть и мыло, как и понятия о том, что такое заражение крови. Почему-то стало немного стыдно. Чжань опустил взгляд, рассматривая плитку под мрамор (а чем черт не шутит, может это и настоящий?), и старик Ло расценил это по-своему.
— Конечно, это не рука мастерицы Ма… и Дракон без особых деталей вокруг, не насыщенный… но лучше иметь возможность добавить, чем наворотить лишнего. Для рождения Дракона сгодится. Я так понимаю, юному мастеру Ванцзе этот дракон отзывается.
— Да, мастер Ло. Надеюсь, что после того, как он поселится под моей кожей, все перестанут упоминать слово «юный» рядом с моим именем.
Ван Ибо слегка усмехается, говоря это, на что старик понимающе кивает. Тот снова смотрит на Сяо Чжаня, в этот раз он не отводит взгляд и старается улыбнуться так же вежливо. Старик издает тот самый звук по новой.
— Вы говорили, что тоже желаете… не покажете эскиз?
— Я хотел бы, чтобы этот рисунок юный мастер Ван увидел уже непосредственно на мне, если так можно.
Старик невольно вскидывает белесые брови, но затем кивает. Чжань смотрит на мальчика, который продолжает держать его эскиз на вытянутых руках. Прошло уже добрых минут десять, это явно нелегко. Чжань уже думает как-то подать голос на этот счет, но тут старик переводит взгляд на мальца и кивает, мол, иди. Мальчик аккуратно кладет лист на низкий столик, кланяется, и только потом выходит из комнаты. Прохладный ветер добирается до сидящих в ней легкими пассами, напоминая, что лето еще не пришло. Старик смотрит куда-то между Ван Ибо и Сяо Чжанем. В пустое пространство. Узловатые пальцы подносят кисэру к уголку рта, старик втягивает дым и тут же выдыхает вместе со словами:
— На такого дракона уйдет где-то сто часов. Вам обустроят дом для гостей на пять дней. Иглы и палочки тебори готовы, как и особые чернила. Когда решитесь, юный мастер Ванцзе, выйдете из комнаты и пойдете вправо. Вас проводят. Нужно подготовиться. Господин Сяо, вы можете продемонстрировать эскиз мне, когда юный мастер нас покинет.
Сяо Чжань чуть улыбается Ибо и кивает. Тот явно нервничает, и так усиленно это скрывает, что даже побледнел. Чжань хотел бы оказаться рядом, но в правилах четко оговаривалось, что тату наносится один на один. Ван Ибо сам ему так и сказал.
Чжань собирался пережить хотя бы часть из этого опыта.
Чтобы лучше понять, через что пройдет Ибо.
Всё это кажется излишне драматичным, но Чжань не понимает в нём так много, что терять такую возможность было бы глупым. Ван Ибо благодарит старика, затем вновь заставляет Сяо Чжаня пережить странное чувство болезненной нежности, когда вот так, не думая стесняться чужого взгляда, наклоняется к нему (старшему, на секундочку), прихватывая за шею и целуя куда-то в волосы. Чжань провожает его взглядом, неосознанно поглаживая второй тубус с эскизом. Когда Ибо выходит, Сяо Чжань поворачивается к старику. Тот особо не изменился в лице. Может, взгляд стал лукавым, да и кисэру он положил на столик. Теперь пальцы поглаживали по куцей бородке, ожидая, когда же ему покажут эскиз. Чжань вдруг думает, что зубы у старика вовсе не аутентичные и наверняка влетели владельцу в копеечку. Тот как раз улыбается ему и кивает на тубус снова.
Чжань вежливо улыбается в ответ и откручивает крышку.
х х х
Туман наплывал будто бы с небес, обволакивая полупрозрачным тюлем холмы, стелился ближе к земле как дымка. Вечер накатывал на Моушей волнами прохладного ветра, тревожа нежные ростки зелени и голые ветви деревьев.
Окна одного из домов были открыты настежь. Дурман трав, которые жгли для «облегчения процесса», скорее вызывал больше головной боли, чем хоть как-то помогал отвлечься от другой. Ибо сказал перестать их жечь, вместо дурмана запуская в комнаты свежий воздух.
Сначала всё шло терпимо. Иглы и острые бамбуковые палочки понемногу вспарывали кожу, запуская в мелкие раны черную краску. Боль четко следовала по нанесенному рисунку. Ибо чувствовал каждую чешуйку дракона, но вскоре, когда иглы и острие палочек пошли по второму кругу, а там и по третьему, вся спина стала лишь одной мешаниной терпкой боли. Она нарастала и пульсировала под кожей, не думая затихать. Ван Ибо не издавал ни звука, но его пальцы все сильнее сжимали края подушки. В какой-то момент вырвался и рваный выдох — одна из палочек тебори, кажется, задела нерв или вроде того, вгоняясь глубже обычного. Мастер Ву, который методично продолжал свое дело, был немногословен. Ибо лишь подметил его стеклянный взгляд, слишком уж бледную кожу и явную любовь к своему ремеслу — увидев эскиз, он, кажется, слегка улыбнулся. Иногда мастер уточнял, выдерживает ли «юный Ванцзе», предлагая взять паузу или уже оставить на завтра. Ибо хотелось закончить с этим побыстрее, так что он лишь отрицательно мычал в ответ.
На полу, рядом с твердым матрасом выросла горка кроваво-черных салфеток. Мастер Ву из раза в раз проводил ими по спине Ибо, от лопаток до поясницы, снимая выступавшие чернила и кровь. В один из таких разов мастер сопроводил это движение фразой «вы хорошо держитесь, юный Ванцзе». У Ван Ибо это вызвало странное желание услышать подобное голосом Сяо Чжаня. Лимитом для себя он выбрал закат. Как только небо окрасится заревом заходящего солнца, он скажет, что на сегодня с него хватит. Имея такой ориентир было легче терпеть. И вскоре, уже практически смирившись с болью, Ибо погрузился то ли в муторный сон, то ли в размышления, прикрыв глаза. Одно сплелось с другим, боль не позволяла окончательно упасть в дрёму, но мысли текли все медленнее, рождая непрошеные образы.
Ибо пытался вспомнить те разы, когда видел тату Хань Фэя. Гадал, каково было ему, оставил ли дурман, как долго терпел и позволял ли себе мычать от боли.
Переносился воспоминаниями всё дальше в детство, игнорируя его мрачные части. Думал о тех днях, когда мечтал получить своего дракона. Думал о тех днях, когда госпожа Ма, отругав его в очередной раз, неожиданно хвалила по мелочи или вкладывала в руки паровую булку с мясной начинкой.
Мысли переносились в настоящее. Как там Орешек? Сяо Чжань уже успел так к нему привязаться. Должен быть в порядке, сам Хенги-гэ поручился…
Мысли неуверенно заглядывали в будущее. Он справится со всем, что грядет? Конечно справится, если рядом будет Чжань. Но с каких пор то справится он или нет зависит от того, что рядом кто-то есть? Это та слабость, о которой все толкуют? Или наоборот… он справится, потому что у него есть Чжань. Он не может иначе. Он не подведет его. Не подвет их.
Хотелось забыться и просто не думать.
Но боль продолжала тормошить. Даже когда солнце стало уходить с небосвода и Ван Ибо выпрямился, боль оставалась с ним.
В голове стучало: «Раз ты так серьёзен, то должен знать, что делаешь худшее для жизни того, кого любишь».
В голове поселилось: «Уже поздно. Эта ответственность куда больше, чем ты думаешь. Когда действительно поймешь это, не сойди с ума от ужаса».
В голове повторялось: «На моих руках пепел десятков людей. Тех, кто был мне семьей. Нам. Но. Если бы среди них был кто-то, кто владел моим сердцем, был бы я жив? У меня нет ответа. Хоть он должен быть однозначным. Мы не живём для себя, Ванцзе. Нас спасли и нас растили не для этого. От холода твоего ума и спокойствия сердца зависят сотни уже сейчас. Если ты знаешь, что не справишься… Беги. Забирай его и беги. Всегда беги. Не доезжай до Моушей, найди способ. Ванцзе.
Если ты вернёшься с драконом на спине, больше ни единого шанса повернуть назад не будет».
В сердце жглось: «Ты — мой сын. С той минуты, как я забрал тебя. И сейчас я даю тебе выбрать. В последний раз».
Выбрать там, где выбора-то и нет, да, Хань-гэ? Классический прием.
Ван Ибо ждёт, когда мастер нанесет масло поверх изъеденной иглами спины, вдыхает глубже его густой цветочный аромат.
Ждёт, когда поверх кожи растянется прозрачная заживляющая пленка.
Мастер помогает ему встать и накинуть поверх плечей халат от простого ханьфу.
Ван Ибо тихо благодарит и бросает «до завтра», выходя из комнат. Мастер коротко смотрит ему вслед и садится обратно на пол, принимаясь полоскать иглы и палочки тебори, закрывать бутыльки чернил и собирать использованные салфетки. Последние нужно пока что собрать в одной коробке и уже в самом конце сжечь в ритуальном огне.
Таковы традиции. Чернила и кровь. Драконы рождаются в пламени.
Мастер Ву вдруг осознает, что одного флакона с маслом ши почему-то не хватает, хоть он его даже не использовал. Нахмурившись, мастер проверяет еще раз, но да. Флакон пропал. Мастер Ву заканчивает уборку и закрывает окна.
Что бы это ни было, оно подождет до завтра.
Шанхай
К тому моменту, как Хань Фэй добирается до кладбища, наступает рассвет.
Солнце выискивает щели среди плотной ткани облаков. Небо грязное, покрытое темными пятнами дождевых туч. Фэй не спешит. При нем нет ни водителя, ни охраны. Они не могут ослушаться приказа ждать у восточных ворот, куда Фэй собирается выйти, когда закончит. Он минует красно-белые столбцы со звездами, которыми чтят за великие заслуги партийных людей. Следует по дорожкам цельных камней дальше, мимо памятных плит. Кладбище разрасталось не только вширь, но и ввысь.
В руках Хань Фэя лишь один цветок — белый ирис.
Ветер старается прорвать полотно неба, но пока ему не удается. Фэй ценит его порывы, свободной рукой подняв ворот тонкого пальто. Вскоре по обе стороны от тропы вырастают карликовые яблони. На некоторых из них несмело набухают почки, обманутые прошедшими жаркими днями. Природа сбивается со своего цикла всё чаще. Фэй сворачивает на более узкую тропу. Её всё так же обрамляют низкие яблони. Ветви стараются дотянуться до Фэя, но у них не выходит.
Когда тропа теряет свои камни, заросшая жухлой травой, Хань Фэй замедляется, вскинув голову. Он рассматривает очертания склепа. Серый камень, низкая пагода с некогда изумрудной черепицей. Литая бронза массивных дверей, требующих ключ.
Тот лежит во внутреннем кармане.
Хань Фэй останавливается у усыпальницы и некоторое время рассматривает строение. Плющ взвился по выступам, почти что поглотив здание полностью. Но двери. За ними кто-то следил, бережно обтирая и вычищая все узоры и золотистые головы мифических существ. Хань Фэй подходит ближе. Замочная скважина смотрит на него правым глазом дракона. Левый рог его головы служит ручкой.
Хань Фэй никогда раньше не открывал эту дверь. В его воспоминаниях первой и последней это сделала Ма. Когда привела показать ему, что он никогда не был сиротой.
Ключ тяжелый. Он входит в замочную скважину с трудом по началу, зато проворачивается внутри как по маслу. Бронза вздыхает, когда дверь расслабляет свои петли. Хань Фэй заходит внутрь.
х х х
Кафе Shanghailander, Building 2, No.692
Yongjia Road
Волосы все ещё влажные. Секретарь Ли почти что не озаботился хорошей сушкой после тренировки и душа, обошелся неряшливым хвостом. Да и велика ли беда — из зала в подземный паркинг, залезть машину, оттуда проехаться по городу в уже другой подземный паркинг. Пройтись три минуты и вот он уже внутри кофейни. Его столик никогда не занимают, круглый и достаточно вместительный, он стоит у окна в дальнем углу помещения. Заказ всегда один и тот же. Кофе со специями и мятным сиропом, который вбивают в раскалённое эспрессо, кунжутные лепешки с коркой тростникового сахара сверху. Ну и… если Хёнгу очень хочется… тут обширная карта десертов и выпечки.
Стук тарелки о стекло столика. Хенг отрывает взгляд от бумаг и смотрит на аккуратное круглое пирожное ровно в середине тарелки. Он поднимает взгляд, сталкиваясь с глазами того, кого никак не ожидал увидеть. Это утро можно вносить в разряд испорченных. Хенг слегка улыбается, говоря нарочно вежливым тоном:
— Какая встреча. Я не заказывал.
Цай Шаушень кивает, садясь напротив. Его грузное тело раздобрело еще больше. Если раньше старший Цай просто был полноват и взбит, его формы не имели в себе жировой прослойки, всегда казалось, что он скорее надут, чем расплывшейся, то сейчас годы брали свое. Это не мешало ему обтянуть тело в дорогую ткань костюма. Серая основа, бледно-жёлтая клетка, лиловый галстук и такого же тона платок в кармане пиджака. Цай Шаушень вставляет десертную вилку ровно в середину пирожного. Хенг смотрит на это, окончательно опустив бумаги на стол. Это утро он хотел посветить тому, что не собирался бросать — адвокатскому делу. Чтобы лицензия продолжала действовать, он должен отработать еще три дела на благо общества — то есть бесплатно. Он выбрал то, в чем знал толк: домашнее насилие, непреднамеренное убийство (он настаивает), и оспаривание кредитных договоров. Эти дела объединял важный для Ли Хенга фактор — судьей значился искусственный интеллект. Хенг желал научиться с ним справляться, изучить его на практике. Он видел в этом пропуск в мир другой системы. Человек перед ним, со своим грузным телом и начальной стадией диабета, владел этой программой. Не партия, не председатели, а клан Цай. Который сейчас явно распадался на части. Но кажется, главу это не заботило.
Шаушень так ничего и не говорит, принимается ковырять пирожное, словно пытаясь найти в нём что-то. Хенг слегка морщится, наблюдая за этой картиной, тянется к кофе ради мелкого глотка. Цай старший наконец-то начинает говорить:
— Я рассчитывал, что он убьет Шеня.
Хенг дарит этому утру улыбочку и тянет, отставив чашку и даже рискнув наклониться поближе:
— С чего бы ему делать за тебя грязную работу? Господин Цай, вы никогда не думали, что ваши сыновья так разочаровывают вас, потому что вы используете их как расходный материал?
Цай старший воспринимает эти слова как шутку, указывая на Хенга вилкой. Он глухо посмеивается и говорит «хорош, хорош», затем принимается по новой издеваться над десертом. Хенг сдерживается, чтобы не закатить глаза. Удивительно, как это кресло, в которое умостился господин Цай, ещё не рухнуло. Хенг переводит взгляд за него. В кофейне нет людей в неформальной одежде, только мужчины в темно-красных костюмах. Люди Цая оперативно всех вывели, и расселись красной плесенью по всему помещению, помыкая несчастным официантом на смене и бойкой бариста.
Отметка настроения грозилась пробить пол и устремиться в подвальное помещение.
Хенг снова смотрит на Цая старшего. Сложив руки перед собой в замок, секретарь старается перейти к делу:
— Что привело вас ко мне с неофициальным визитом? Проездом в Шанхае? Вас давно никто не видел, рад, что вы здоровы.
— Ты не рад, а я не здоров, шавочка. Но ты прав, ближе к делу. Ты уже знаешь, я назначил цену за голову младшего Ханя. Это лучше, чем убить самого Фэя. Он должен потерять всё, прежде чем уйдет к праотцам.
— Ты не любишь своих сыновей, не любишь ни бывшую жену, ни нынешнюю, но что ты так сильно любил, что мстишь ему так долго? Я ломал голову над этим, но никак не мог понять.
Господин Цай не смотрит на Хенга, продолжая есть пирожное. Он наслаждается его вкусом, отцепляя маленькие кусочки, слизывая те с зубьев вилки. Если Хенгу и хотелось съесть что-то ещё кроме лепешек, то с этого момента голод сник.
— Такие, как он, шавочка, вечно пытаются изменить мир ценой чужих жизней. Об этом ведь весь ваш клан? Вы меняли историю, захватывая власть и оружие. Вы сеяли хаос своими выебонами. И это каждый раз приводило к трагедии. И только все вошло в рутину, как это говно снова всплыло. Это нужно задушить, пока есть возможность. У остальных не хватает смелости и они надеются что-то поиметь от вас, но я знаю, что получить от людей Хань можно только смерть.
Хенг молчит. Господин Цай доедает пирожное и улыбается ему. Пухлые губы мужчины растягиваются широко. Хенг хочет стереть эту улыбку с лица, так что всё же спрашивает, устроив подбородок на сцепленных пальцах:
— Кого он убил? Кому он принёс смерть, Шаушень, что ты рушишь всё, лишь бы его уничтожить?
Улыбка и правда исчезает с лица Цая старшего. Он отворачивается, подзывая жестом кого-то из своих людей. К ним подходит коренастый мужчина, наклоняется к Шаушеню и что-то шепчет на ухо. Тот кивает и отсылает мужчину обратно.
— Господин Ли… или секретарь Ли. У меня есть к главе клана Хань дельное предложение. Я отзову охоту на его названого сына… которую объявил даже на теневом рынке. Но тогда он придёт ко мне в течение девяти часов. Если к этому моменту он не явится по адресу, что сейчас отослали вам на номер, я не просто не отзову охоту. Я подниму ставки. Мои люди против ваших людей. Еще не окрепших, слабых, либо слишком старых. Мне удалось лишь засадить его в прошлый раз, я хотел, чтобы он гнил там вечно и наблюдал, как весь мир течет спокойной рекой…
— Гнилой и тухлой рекой к пропасти, господин Цай. Вам правда по нраву мир за окном?
Цай Шаушень не продолжает оборванную мысль, вглядываясь в Хенга более внимательно. Его глаза все равно оставались крупными, вопреки оплывшему лицу. На конце темной бородки была заплетена мелкая косичка. Хенгу хотелось её подпалить.
Господин Цай переходит на театральный шепот:
— Да ты правда веришь в это, шавочка?
Господин Цай наклоняется пониже, подзывая Хенга к себе пальцем. Но тот не спешит на это реагировать. Тем более, что Цаю это не нужно. Он усмехается, продолжая:
— Никому не нужен свободный Китай, господин Ли. В первую очередь он не нужен самому Китаю. Свобода — это бремя. А то, чего хочешь ты… называется иначе.
Было бы довольно легко сейчас выплеснуть остатки кофе в лицо Цая старшего. Хенг практически видит эти коричневые потеки, которые разукрасили эту рожу. Вместо этого секретарь Ли чуть кивает и усмехается:
— Я передам ваше щедрое предложение господину Ханю. Но могу уверить вас, что он вряд ли появится на вашем пороге. У нас достаточно сил для того, чтобы защитить своих людей и тем более юного господина. Настаиваю, что в сотрудничестве мы получим больше, чем во вражде. Те старики в правлении, что лояльны к вам, не вечны. Они скоро умрут.
— Так и я скоро умру, господин Ли. Но в ад я заберу и Хань Фэя. Может, даже вас. Вы туда так и проситесь. Ад вам к лицу.
Хенг молчит. Господин Цай решает, что последнее слово осталось за ним. Он грузно поднимается с кресла, знаком приказывает людям собираться. Хенг, сложив руки на груди, наблюдает, как кофейня постепенно пустеет. Телефон на столике вибрирует.
Ему не нужно на него смотреть, чтобы увидеть сообщение с адресом.
Хенг переводит взгляд на бумаги, затем в окно. Несколько серебристых мерсов выезжают с парковочных мест.
Из задумчивости секретаря Ли выдергивает осторожный голос:
— Господин Ли? Всё в порядке?
Официант. Милейшее создание с бейджиком «Майки».
Хенг кивает пару раз и уверяет, что он в порядке. Просит убрать тарелку, измазанную красной помадкой от пирожного. Заказывает ещё кофе.
Шанхай проснулся окончательно, а ветер разметал тучи. Солнце заглядывает в кофейню через стекло окон, заставляя медь волос Хенга переливаться золотом.
Такой погожий день, а уже изгажен. Хенг собирает бумаги в папку, затем все же берет телефон в руки. Кроме сообщения с неизвестного номера с адресом, его ждут и двадцать сообщений от Марко и Вонга, которых он оставил с прибывшим из Пекина котенком. Не жизнь, а полный сюр. Но по правде… он не желал бы другого.
За такую жизнь хочется бороться.
Ли Хенг открывает сообщение и читает адрес несколько раз.
Вместо того чтобы сохранить или переслать, он просто удаляет это смс.
18. 龙飞于此
XVIII.
Долг — это то, что мы требуем от других.
И не делаем сами.Оскар Уайльд
Юг, Хунань,
деревня Моушей
У дождя не было и шанса — ветер разбушевался не на шутку, гоняя облака и нещадно истрепывая тонкие ветви лип. Он спускался к макушкам сосен, скатываясь до самого низа ледяным потоком, где яро взметал в воздух сухую землю вытоптанных троп.
Но дождь был упрям, уступать ему не хотелось. Мелкие капли распылялись моросью, заставляя солнечные лучи переливаться и искриться, вода превращалась в мельчайшие кристаллы, порой оставаясь такой больше пары секунд. Солнечный свет становился всё темнее, уходя от слепящих тонов к пастельным, а оттуда — глубже к цвету. Вскоре скалистые выступы деревни Моушей, огражденные вереницей массивных глыб, озарило багрянцем. Вечер менял палитру неба под себя, готовясь к ночи.
Боль забылась. Она все ещё присутствовала, ныла от лопатки до предплечья, заставляя пульсировать соцветия нервных окончаний, намекая, что тут что-то не в порядке. И всё же, боль выпала из фокуса внимания, словно неважная мелочь, она пала перед красотой, которая разверзлась перед Сяо Чжанем бесконечностью прямой сейчас. Осознание её неповторимости заставило замереть, неосознанно поглаживая шероховатый бок каменного заграждения, пока там, в непроходимой долине песчаных пик и холмов, происходило нечто, чего нельзя было на самом деле постичь.
Просто закат, сказал бы кто-то. И это было бы неправдой.
Возможно, виной такому состоянию, близкому то ли к катарсису, то ли к странному виду нервного срыва, был отвар, который госпожа Цыси заставила его выпить. Наваристый и смолянистый, словно в него добавили те самые чернила, отвар прокатился от глотки к пищеводу чем-то сладким и кислым, напоминая сразу сушеные финики и терпкие сливы. Через пару минут Чжаня окутало мягкое тепло, а сейчас, истерзанная иглами кожа под пленкой и мягкой тканью худи, стала ныть менее интенсивно. Может, и правда, дело в отваре. А может, Сяо Чжань начал чувствовать что-то большее к миру.
Что-то, что у него получалось чувствовать раньше, но о чём забылось.
Если такое срабатывает с болью, разве не может сработать и с чем-то ещё?
Говоря о ней. Оказалось, что у Сяо Чжаня особые отношения с болью, о которых он не подозревал: ему невыносима её мелкая и мучительная вариация. Чжань ломал в своей жизни ногу, и эта боль была ему понятна. Чжань получал ожоги в процессе готовки. Стесывал кожу об асфальт при падении с велосипеда. Не единожды бился головой о слишком низкие перекладины, и один раз даже врезался в стеклянную дверь, не зная, что она там есть. Чжань, в конце концов, пару раз неудачно занимался сексом. Без катастроф, тем не менее, с болью он знаком, просто та всегда была масштабнее иглы под кожу. Выяснилось, что если вгонять такую иглу под кожу множество раз, добавляя чернила на её кончик, затем проходится острием бамбуковых палочек по свежим ранам, и так без остановки, все углубляя надрезы, Сяо Чжаню станет дурно. Тот смутно припоминает, что самым болезненным эпизодом в его жизни был… сбитый на ноге ноготь. Мучения, которые он перенёс тогда, а затем и в процессе восстановления, заставляли усердно следить за тем, чтобы обувь была мягкой, на ноги ничего не падало, а углы тумб и дверных проемов запоминались в лицо. Это ведь и есть основная функция боли: уберечь от вреда. Сигнал о том, что что-то идёт не так, что-то надо прекратить или же исправить. Неважно при этом, будь это сбитый ноготь или желание выплакаться поздним вечером четверга. Больно бывает везде и по-разному. Игнорировать это нельзя. Боль — благо. Но почему люди порой стремятся к боли осознанно? Провоцируют её, культивируют, преследуют. Даже находят в ней призвание.
Небо почти что успокоилось. Словно после бури, ветер разгладил всполохи алого и янтарного, местами добавил больше света, и теперь весь небосвод больше походил на спелый бок персика, но и это не продлится долго. Когда Чжань чувствует тяжесть и тепло ладони на своей пояснице, а затем и замысловатый аромат шафрана с анисом, нотки какого-то масла, вроде сандала, небо уже добавляет лиловые мазки ближе к горизонту. Там, за чередой холмов и кварцевых столбов, усеянных темной зеленью, зарождается ночь. Сяо Чжань чувствует, как рука на пояснице стремится выше, нерешительно застывая на середине лопаток. Чжань отлипает от зрелища и поворачивается. Ван Ибо, очевидно, совершенно плевать на вид вокруг них. Он смотрит на него и устало улыбается, его голос слегка хрипит:
— Вижу, тебе явно нравится другой Китай. Мне сказали, что ты тут загадочно торчишь с того момента, как с тату закончили. Правда за один раз всё добили?
Чжань чуть пожимает нетронутым плечом. Его тату замотано не только пищевой пленкой, под ней слои из трех заживляющих мазей и белая прослойка промасленной чайным деревом тонкой ткани. Последнее не было обязательным, хоть и традиционным, но Сяо Чжань настоял — он покажет Ибо тату тогда, когда тот закончит с драконом.
— Хочу, чтобы всё зажило раньше, чем у тебя, чтобы не отвлекаться на себя. Калекой может быть только один из нас. Покажу тогда, когда с твоей закончат. Мне сказали, что реакции на такую пытку могут быть разные. До лихорадки. Что-то про сам метод и чернила…
— Не будет такого.
Ван Ибо говорит это так просто, потому и твёрдо. Сяо Чжань хмыкает, тянется ближе, чтобы парой жестов запахнуть халат от ханьфу на Ибо плотнее — нечего светить торсом, хоть тот и перемотан пленкой, да и к тому же — прохладно. Местные вряд ли бросят больше одного взгляда на господина Ванцзе, но вот исподтишка рассматривают его прямо сейчас. Ходят, словно в замедленной съемке, вытягивают шеи. Чжань даже видел пару попыток поднять телефоны ради съемки, которые пресекались старшим поколением. Сяо Чжань чувствует — деревня все ещё фонит любопытством.
Ван Ибо воспринимает этот жест самодовольно. Улыбка из усталой становится самоуверенной, он оказывается критически близко. Чжань вспоминает, как тот поцеловал его в макушку, прежде чем уйти, но он не уверен, что перед всей деревней можно зайти куда-то дальше. Нет, характер их отношений очевиден, Чжань осознает, но стоит ли наглеть? Он опускает взгляд, снова пытаясь свести ткань, задаётся вопросом — где чертов пояс (часть ткани уже собрала всю пыль и грязь с земли, что только могла), пока не подмечает, что левый карман даопао явно оттягивает что-то тяжелое.
Чжань возвращается взглядом к лицу Ван Ибо, чьи глаза переходят от наигранной невинности к легкому прищуру.
— Что там у тебя, Ван Ибо?
— Ну, на нас двоих накрыли стол, я отказался пока от пиршества на всех, перенес на день отъезда. Пить нельзя, будет больше крови, но раз с тобой закончили, тебе уже можно, я так думаю… тем более, тату ведь у тебя небольшая, верно?
— Ты стырил у кого-то вино?
— Не стырил, а принял в подарок. Стырил я кое-что другое. Эти карманы созданы для таких вещей, ты так не считаешь? Мне кажется, туда может поместиться дохрена всего… Пойдем.
Сяо Чжаня хватает только на то, чтобы вскинуть брови. В следующий момент Ван Ибо уже тянет его за руку, уводя от панорамного вида на долину в обратную сторону.
К защищенным от ветра домам и их теплу.
х х х
Негласным правилом было не трогать спину Ван Ибо и левое предплечье Сяо Чжаня.
На какой минуте на это стало плевать? Почти сразу.
Боль, такая разная, порой доводящая до шипения и рваного выдоха, смешалась с наслаждением. Понять где что становилось всё труднее. Пахло орехом и чем-то водянистым, склянка с маслом ши потеряла свою крышку. Прозрачное и густое, оно растёрлось по коже. Чжань шепчет «оттенок твоей кожи похож на мякоть миндаля» и Ван Ибо выдыхает в шею короткое «хрень».
Казалось, что предел смущения был достигнут (да, Ибо на него способен), когда он произнёс «я хочу как на гравюре японцев».
Чжаню пришлось около минуты рассматривать его лицо, пытаясь понять.
А когда он понял, то ошибочно предположил, что колени сегодня сбивать ему.
Многозначительное и едва ли громкое «я же младше, Сяо-гэ» расставило на свои места желания и приоритеты на этот вечер. Чжань с вопросами не лез, видя, как почему-то мучительно всё это даётся Ибо.
Так было до момента, когда тот себя наконец-то отпустил.
Отпустил, после того, как Чжань произнёс «хрень в твоей голове не даст нам кончить».
Тонкая ткань ханьфу растеклась неподалеку темным пятном, с другой стороны забытыми тряпками валялась остальная одежда, на столе остывал нетронутый ужин.
Вопреки желанию Ван Ибо, Чжань не давал ему занять ту самую позу. Он хотел брать его лицом к лицу. Протестное мычание всерьёз воспринято не было — Чжань целовал его, поглаживая по шее, не спуская со своих бедер — укладывать Ибо на истерзанную спину никто не собирался, к тому же, в такой позе тот смог бы сам управлять глубиной проникновения, и при желании — соскочить. На тот момент ещё ничего толком не произошло, но Чжань сказал, что «хочет всё увидеть». Его интересовало именно то, что Ибо надеялся скрыть — лицо. Когда Чжань медленно загонит свой член поглубже. Когда начнёт двигаться. Когда Ибо почувствует, как сквозь боль пробивается нечто большее.
Упустить этот момент? Да никогда.
Чжань старался быть нежным и бережным, вопреки тому, что Ибо это бесило. В какой-то момент Чжань всё-таки не выдерживает. На очередное «давай уже быстрее», Чжань остановился вовсе. Его шепот казался как никогда низким, и смотря на Ибо снизу вверх, он напротив источал власть, с которой Ибо бороться не мог. Потому что не хотел.
Как бы страшно ни было признаться в этом окончательно. Ни в этот вечер, ни когда бы то ни было. Значит, фокус в том, чтобы этот человек всегда хотел того же, чего хочет он сам. Пока это совпадает, они будут в порядке.
Чжань прохрипел, скользя кончиками пальцев от плеча к шее Ибо, а затем заставляя наклониться к себе:
— Быстрее не будет. Всё будет медленно. А ты будешь ныть. Всхлипывать. И кончать. Ты же младше, Бо-ди.
Ван Ибо не знает, какая часть фразы освободила его, а какая приятно взбесила. Всё, что он знает: член Сяо Чжаня идеально входит в его задницу. Измазанные маслом ладони скользят по его груди, Ибо наклоняется вперед и ниже, чтобы заняться тем, чем хочется: вести языком по шее, целовать за ухом, утыкаться туда губами и мычать, дав себе короткую передышку, когда бедра Чжаня принимаются работать усерднее; добираться до сосков, чувствовать под губами упругость кожи, задевать кромкой зубов и кратко тянуть, чтобы Чжань, входя в него по новой, зашипел. Масло нагревается на коже. Нагревается от трения, становится всё жиже. Ибо заворожен приглушённым блеском, тем, как Чжань приоткрывает губы на выдохе и говорит ему «поводи бедрами, пока я внутри». Ему кажется, что тот знает, скажи он ему «брось всё, предай триаду» — он сделает. Видимо, это их уговор.
Их вид любви. Чжань знает, что Ибо сделает, а Ибо знает, что Чжань никогда его о таком не попросит. Ибо выпрямляется.
«Поводить бедрами» превращается в плавную и медленную пытку для обоих. В какой-то момент изнывающее тело стремительно прошивает новым ощущением — чем-то, что в начале воспринимается болью, но оказывается удовольствием, от которого белеет под веками. Ибо действительно всхлипывает. Ибо стонет. И когда ладонь Чжаня мягко ласкает по мошонке, а затем принимается дрочить куда резче и быстрее, чем двигаются его бедра, Ибо кончает в первый раз. Этого мало для обоих.
Ван Ибо всё-таки встаёт на колени. Чжань размазывает еще масла по его ягодицам, сжимая чаще и раздвигая пару раз, вслед чему всегда звучит почти что скрытое футоном «та блядь». Последнее Ибо тянет прогибаясь, тело противоречит словам, подставляется и хочет ещё. Скомканное одеяло служит Ибо опорой, скорее морально — он зарывается в него лицом, комкает под себя, и мужественно не добавляет никаких осмысленных фраз. Остановиться он тоже не просит.
Честно говоря — Чжань не знал, что он настолько войдет во вкус. Их «секс без главного блюда» вполне его устраивал, он никогда не был особо зациклен на этом аспекте жизни, но кажется, это всё по незнанию.
Да, Чжань чаще любил принимать, он выбирал исключительно таких партнеров, как и для отношений, так и для одноразовых акций. Но сейчас происходило нечто куда больше, чем просто секс. Есть избитое выражение «отдаться» — так вот Ван Ибо, со всей самоотверженностью, ему отдавался. Жаждал этого, просил об этом, и, быть может, никогда больше именно о таком не попросит. Чжань улавливал, что он вкладывает в эту ночь много смыслов. Узнать бы их все и не налажать.
Чжань снова проходится ладонями по ягодицам, разводит, смотря на припухшую от своих стараний дырку. Всё блестит от масла, но его никогда не будет достаточно. Чжань льет еще немного, оно уже не кажется холодным, так что Ибо выдыхает расслабленно. Чжань скользит пальцами пару раз, входя ими совсем немного, скорее дразнясь. Наверное, надо спросить ещё раз. Он ласкает подушечкой большого пальца по краям ануса, надавливает, в этот раз заставляя Ибо мычать недовольно.
Тот даже переходит от звуков к словам:
— Тебе так нравится играться там, гэ?
Сяо Чжань усмехается, надавливая сильнее. Затем, без особых прелюдий, приставляет головку ко входу и толкается. Двигается мелкими рывками, снова и снова возвращаясь лаской к ягодицам. Заводит немного назад, при каждой новой волне входя глубже. Это все ещё немыслимо тесно, Ибо сжимается на нём сильнее, но при этом ход мышц всё меньше сопротивляется. Чжань понимает — тот сжимается на нём уже осознанно, потому что ему хорошо и он хочет, чтобы и Чжаню стало ещё приятнее.
Он выдыхает «да», затем, без интонации вопроса «а тебе», заканчивая «хочу услышать», когда вбивается до влажного шлепка. За ним следуют другие. Ещё и ещё.
Резче, сильнее и без пауз.
Ван Ибо с одной стороны хочется назвать его ублюдком, с другой — ему слишком хорошо, чтобы вообще хоть что-то произносить. Он комкает одеяло сильнее и стонет в него «блядь», а затем бесконечное «гэ» и «Чжань», совершенно наплевав на то, что это звучит совсем как в порнухе. Возможно, та иногда не так уж и врёт.
х х х
До вина они все-таки добираются. Язык пощипывает знакомыми сладостью и кислинкой от фиников и слив — просто в этот раз «отвар» холодный. Ибо лежит на животе, согнув одну ногу в колене, и наблюдает, как Сяо Чжань пьет из узкого горлышка, темные капли стекают от уголка рта вниз, Чжань облизывается, затем ведет по подбородку тыльной стороной ладони. Ибо усмехается и говорит: «Я бы слизал, если бы ты ко мне наклонился».
Сяо Чжань тихо фырчит и смотрит на него. Это не что-то новое. Ибо знает и эту нежность во взгляде, и что-то слишком теплое и смущающее, но настолько дорогое, что отворачиваться — преступление. Ибо хочет вбирать этот взгляд в себя, хочет, чтобы он всегда был таким и никак иначе. Он хочет этого настолько сильно, ревностно и эгоистично, что просто знает — он будет делать для этого всё.
Чжань тянется к нему, чтобы мягко взъерошить волосы. Его взгляд скользит к спине. Плёнка и сползла, и стянулась, её бы разрезать, обработать всё по новой, но Ибо пока хотел лежать так и отдыхать. На попытку Чжаня «пойти найти что-нибудь», Ибо запротестовал. Всё потом. Не страшно. Может быть.
Чжань ставит бутылку вина рядом с собой, подбирается ближе к Ибо на разобранном футоне. Осторожно касается застывшего под пленкой дракона — вторит линиям кончиками пальцев, ощущая жар воспаленной кожи. Не вся краска впиталась, она мажет по пальцам в тех местах, где плёнка съехала, позволяя коже обветриться. Пахнет металлом. Пахнет сандалом. Дракон скалится ровно так, как Чжань ему приказал.
Ван Ибо закрывает глаза. Его шепот кажется Чжаню хрупким, словно тонкое стекло — надавишь совсем немного и то станет россыпью мелких осколков.
— Ты спрашивал… что сказал мне брат. Когда-то… лет в десять, он рассказал мне одну притчу…я её тогда не понял… мол, однажды странник встретил даоса, и спросил у него, откуда тот идёт… тот сказал, что из ада. Он ходил туда, чтобы раскурить трубку… но в аду не нашлось огня. Даос удивился: Ад — и без огня? Но князь Тьмы ответил даосу, что в аду действительно нет огня. Потому что каждый приходит в ад со своим собственным.
Пальцы Сяо Чжаня замирают у хвоста дракона. Чешуя на нём намечена пока блекло. Чжань опускает руку ниже — ведет лаской по пояснице, у самой кромки плёнки, где пока пусто. Кожа цвета мякоти миндаля. Чжань всё молчит, затем вытягиваться рядом, на тёплом полу бамбукового настила. Пальцы теперь гладят щеку Ибо. По ней, ближе к подбородку, только обозначились едва темнеющие волоски. Чжань спрашивает:
— Почему ты вспомнил эту притчу?
Ибо молчит. Открывает глаза. Взгляд кажется Чжаню и серьезным, и каким-то беззащитным. Может, дело в полумраке? В комнате горит лишь один низкий торшер. А может, дело в случившемся? Ибо смотрит, затем губы слегка улыбаются, скорее в растерянности.
— Я боюсь, что ты станешь для меня этим огнём.
Чжань понимает сказанное куда быстрее, чем фразу про японскую гравюру. Он усмехается и чуть морщит лоб, затем укладывает ладонь на щеку Ибо полностью. Чжань смотрит в его глаза, когда говорит:
— Если мне суждено стать тем огнём, с которым ты спустишься в ад, Ван Ибо. То я буду тем пламенем, которое сожжёт его, если только ад соберется сделать тебе больно. Вовсе не тем, что будет жечь тебя. Огонь — это ведь свет, Ибо. В аду, говорят, темно. Я разгоню для тебя тьму в любом месте, и согрею тоже.
— Почему?
Этот вопрос звучит уж совсем несчастно и Чжань не сдерживает свой порыв, когда тянется ближе, чтобы коснуться губ. От мысли, что это очень редкая ночь, когда Ибо позволяет себе быть настолько открытым, отказавшись от масок, немного ноет под ребрами. Чжань шепчет совсем тихо, решив признаться:
— Потому что если бы не это, Бо-ди, я бы сжёг себя и весь мир. Засыпай.
Чжань гладит Ибо по щеке и шее, пока тот всё смотрит на него, пытаясь то ли что-то найти, то ли запомнить. Ибо начинает моргать всё медленнее, и вскоре действительно засыпает. Чжань целует его у виска. Затем он допивает вино, все еще рассматривая Ибо, прикрыв того до середины спины одеялом. Потом одевается.
Ему нужно найти те мази и новый кусок плёнки.
Оба телефона стоят на беззвучном. Светится непринятыми звонками только один.
У дома для важных гостей выставлена охрана. Медведь курит вторую сигарету за вечер, подпирая торец дома, вскидывает голову.
Небо растеклось чернильной кляксой, по которой мерцают звёзды. Когда Медведь опустит голову, он увидит в паре шагов человека в черной балаклаве, тот заметит его и ринется вперед, стараясь засадить лезвие в область желудка.
Спустя минуту неравной возни Медведь вставит нож ему под печень и прокрутит, взяв в захват шею.
Недокуренная сигарета будет тлеть в жухлой траве и расстроит Медведя всерьёз.
В Моушене такие сигареты не продаются, а у него осталась только половина пачки.
Шанхай
Глаза открываются ровно в пять, что бы ты ни делал. Ложишься рано, ложишься поздно. В пять сорок пять желудок начинает вырабатывать сок, требуя пищи.
В шесть двадцать мозг посылает сигнал мышцам, и те начинают изнывать от жажды движения. В час дня желудочный сок выделится вновь. Затем в семь вечера. Между этими точками в сутках существует жизнь, которая раньше была четко упорядочена.
Тело стало рабом, сбросить с себя оковы оказалось тяжким делом, а ведь предполагалось, что именно этого оно и жаждет. Конечно, для здоровья это не так уж плохо, разве нет? Только вот Фэю хотелось выработать свой режим, а не тюремный распорядок дня. Мелочь, а важная.
В пять утра он неизменно изучает потолок. Не тянется к телефону, не встает, чтобы открыть шторы спальни. В пять утра еще темно. Потолок всегда кажется особенно низким в этот момент, словно нависшая гранитная плита. Если скосить взгляд правее или левее, можно различить другую тьму, — залитую бархатным дёгтем балдахина.
К этому все ещё трудно привыкнуть.
Раньше такое открытие глаз после сна всегда сопровождалось слепящим светом продолговатых ламп. Те, к слову, тоже были «за решеткой» — плафоны расчертили мелким квадратом алюминиевой лески.
В голове сразу же возникает мотив «Мои люди и моя родина» — песни, которой в предрассветный час будили «постояльцев» тюрьмы Циньчэн. Хань Фэй знает каждое слово. Они порой меняли плейлист патриотических композиций, которые звучали из динамиков тюрьмы до отбоя, но почему-то именно эта неизменно встречала каждый новый день.
Фэй подозревает, что дело было в громогласном вступлении. И новшестве, «Мои люди и моя родина» — хит восьмидесятых, дорогая сердцу ностальгия для многих. На всю тюрьму Хань Фэй был, пожалуй, единственным, кто действительно вслушивался в эти слова каждое утро, вкладывал в них иной смысл.
Его варианты трактовок нравились ему больше.
Хань Фэй не хотел выделяться. В желании отбыть свой срок скромно, он не рвался занимать никакую из ниш тюремной иерархии. Но всё это решилось за него из-за маленькой детали: ему не дали подстричься. Расчет местной власти заключался в том, что видя Хань Фэя как не такого как все, основная масса задастся вопросами, а затем приступит и к действиям. Эта классическая травля руками самих заключенных никогда не подводила, помогая устранять лишнюю головную боль. Но в этом случае все сработало с точностью наоборот. Местная власть, как всегда, не учитывала полутона и тонкости другого Китая. Даже самая отбитая шпана понимала, что Дракона, даже если условно бывшего, трогать не стоит. Тот факт, что Фэю «оставили» его волосы, не выводили особых требований и даже позволяли «гулять» по внутреннему двору на двадцать минут дольше, воспринялось естественным порядком дел для всех заключенных. Другой вопрос, если бы там был хоть кто-то приближенный к такому статусу, но воевать за власть Фэю было просто не с кем. Какой бы смешной та ни была. Заключенные старались угодить, не переходили дорогу, а если кто пытался (случилось это всего лишь раз), даже не сам Фэй решал вопрос. На него забыковали, к концу оскорбления получили по морде от товарища слева, который взревел: «Ты нас всех подставишь, урод!».
Хань Фэй наблюдал за массовой дракой наголо бритых мужчин, продолжая есть кислую редьку с постным рисом.
Так текли дни, которые не имели ценности. Хань Фэй просто ждал. Не вынашивал планы, не собирал связи, не выстраивал новые схемы. Хань Фэй не хотел мстить. Потому что истинным объектом мести были вовсе не те люди, что отдали приказ, и не те, кто его совершил. Им был тот человек, который позволил всему этому случится.
Хань Фэй хотел сохранить Ванцзе жизнь и сделать ту достойной. Подальше от всего.
В этом он видел и свое спасение. Он не видел его в возрождении клана.
Во всяком случае точно не таким, каким тот был.
Наверное это имела в виду Ма, когда, слегка прищурив взгляд, говорила ему, что он «мальчишка с червоточиной». Эта фраза возникала во время споров с госпожой, где Фэй учился стойкости суждений. Нарочно ровный тон и никакого повышения голоса. Ма никогда не говорила при этом, что ошиблась в выборе, выслушивая все несогласия и недовольства. Иногда Фэю казалось, что то, что он не разделяет некоторые из ценностей клана Хань, её даже радовало и забавляло.
Сейчас он понимает, как часто звучал для неё наивно и самонадеянно.
В пять утра Фэй вспоминает. В пять утра Фэй строит планы.
В пять утра Фэй ждёт, когда пройдут сорок пять минут и ровно в этот момент он почувствует первый легкий спазм голода по желудку. Тогда он встаёт, неспешно одевается, умывает лицо холодной водой.
Чистка зубов, слегка подбрить по лицу и шее. Зачесать волосы назад.
Чувствовать голод каждой клеточкой тела.
Хань Фэй спускается на кухню поместья в шесть ноль два, издеваясь над рабской природой тела, и готовит завтрак самостоятельно. В это время кухарка Даника, — низенькая и фигуристая филиппинка, которую, если верить слухам, секретарь Ли выписал из какого-то борделя в Макао, — беспомощно наблюдает за главой, не зная, куда себя деть. Хань Фэй не дает никаких поручений, даже не здоровается, просто смотрит на нее каждое утро пару секунд, пока та не кивнет, а затем не сядет в уголке на табурет.
В тюрьме мясо и рыба были редкостью. Теперь Хань Фэй всегда начинает свой день с чего-то такого. В начале желудок и кишечник протестовали против такой резкой смены диеты, в течение дня Фэй поощрял себя обилием овощей, старался не шокировать организм чем-то острым и слишком уж жирным, но по утрам…
Со своего поста Даника в очередной раз наблюдает, как босс вытаскивает продукты из холодильника и подсобки, расставляя всё по столу в центре. На нём кухарка обычно предпочитала работать с тестом: от лапши и паровых булок, до лепки гёдза. Последние местному люду очень приглянулись. Конечно, большая часть еды заказывалась из ресторанов, но все правда отличали её более «домашний и уютный» вариант блюд.
Не ценил их только босс. Едва ли он за это время попробовал хотя бы одно кушанье филиппинки. Может, и хорошо?
Порой Даника порывалась уйти, но всякий раз господин Хань останавливал её одним взглядом. Возможно, тот пытался показать ей, что он предпочитает есть по утрам?
Но блюда менялись каждый раз! Да и указаний никаких потом не следовало.
Сейчас господин Хань расправлялся со свининой. Он приправил ту солью и нарезал витиеватыми лоскутками, пользуясь самым ходовым и обычным ножом-топориком. Им же он рубит на мелкую соломку бледно-зеленый стебель латука, добавляет маринованную пасту чили, чеснок, зеленый лук и имбирь. В металлическую глубь миски щедро вливается шаосинское вино, соевый соус, сыплется гороховый крахмал. Всё это перемешивается между собой, становясь кроваво-багряной массой. Даника многое знала о китайской кухне, но еще никто при ней не относился к законам её последовательности настолько небрежно. Господин Хань жарит мясо отдельно, заливая сковороду кунжутным маслом. Мясо белеет. Босс наклоняет сковороду, заставляя масло собраться к низу лужицей, вкидывает туда своё месиво, ошпаривая его, только после этого смешивает всё это вместе со свининой, добавляет небрежно порубленные шиитаке. Кухню заполняет густой и насыщенный запах жареного мяса, пряного перца, замешанного на легкой кислинке то ли от грибов, то ли от имбиря. Господин Хань продолжает потряхивать и перемешивать свой будущий завтрак, затем добавляет еще соевого соуса, только теперь вместе с сахаром и уксусом. Блюдо густеет. Когда господин Хань распределяет свинину по тарелкам, та кажется глянцевой. Нежные куски мяса, темнеющие бока грибов, кое-где угадывается зелень лука. И эти алые лужицы масла чили…
Господин Хань кивает Данике на вторую тарелку, но та отказывается есть при боссе. Слишком странно и стыдно. Тот трапезничает, часто не доедает, зато выпивает по две кружки чая, который также заваривает сам. С последним глотком он всегда говорит только одно слово — «спасибо», молча моет всю посуду и уходит из кухни.
В это утро Данике остаётся порция «кровавой свинины» и очередное чувство смятения.
Обжигая рот все ещё теплым мясом и вдавливая зубы в пружинистую текстуру грибов, она всё же решается набрать сообщение секретарю Ли и осторожно пожаловаться на свою судьбу. Лучше всё же понять, что происходит, чем страдать в неведении.
Этому жизнь точно успела её научить.
х х х
— Наших индусов порезали в карри.
Ли Хенг просит повторить, мрачно отрывая взгляд от экрана ноутбука. Голос Марко в трубке кажется весёлым, но это явно от нервов. Он говорит, что стоит перед трупами индусов, которые сегодня в час дня должны были начать первый тур переговоров с людьми Хань по поводу контрабанды лекарств. Хенг слушает, как Марко затягивается сигареткой, поясняя, что его знакомый из полиции («Тот самый, которого вы одобрили, секретарь!») успел перехватить «куш на четыре трупа» и сдать местечко раньше, чем выедет наряд.
Хенг откидывается на спинку кресла, смотря куда-то перед собой.
— И почему ты уверен, что это всё же наши индусы?
— Наверное потому что их кровью написали «Клан Хань несёт смерть».
Ли Хенг морщится. Краткое «понятно» и «вышли мне фото», затем «заметай любым способом», секретарь Ли скидывает вызов.
Надо отдать должное: Цай решил вести войну незаурядными методами.
Прошло трое суток с момента, как Хань Фэй не явился на порог Цая Шаушеня.
Первый удар ожидался раньше и уж точно не по такой вещи, как прощупывание почвы насчет сотрудничества с индусами. Верно, Цай же не просто хочет всех вырезать, он хочет уничтожить клан Хань как явление, как миф, как идею.
Потому как иначе тот постоянно воскресает.
Телефон снова вибрирует, на этот раз Хенгу приходится использовать свои познания в филиппинском варианте английского: кухарка жалуется, что господин Хань постоянно готовит завтрак себе рано утром, заставляя её наблюдать за собой, и она не понимает, что это значит.
Хенг морщится. Что за?
Это меньшая из проблем сейчас, но почему-то на это Хенг решает отреагировать сразу же. Набирая Фэя, он наклоняется к столу, в желании приложиться о столешницу лбом, но передумывает, резко выпрямляясь обратно. У него затекла шея, во рту сухо, всю ночь он работал то над делами, то над маршрутом будущей контрабанды. Это физическое. Морально его беспокоила только одна деталь. По-хорошему он должен сказать: «Я скрыл от тебя щедрое предложение Цая, согласиться на которое я бы тебе и так не позволил, я боялся, что есть маленькая вероятность, что ты решишься на это харакири, но кажется, Цай рехнулся окончательно». Вместо этого, как только Хенг слышит низкое «слушаю», он выдаёт:
— Ты пугаешь Данику своими завтраками. Пожалей женщину.
Короткое хмыканье. Хенг опускает взгляд на свой стол, тянется к стикеру с пометкой «индусы — ресторан Шива — час дня», срывает его и комкает. Бумажка летит на пол.
Секретарь Ли продолжает:
— Цай сделал первый весомый ход. Он убил индусов Самира. Их кровью написали «клан Хань несёт смерть».
Молчание. Хенг думает продолжить, но Хань Фэй всё же уточняет:
— Где написали?
Вопрос ставит в тупик. Хенг отнимает телефон от уха, листает сообщения. Фотографии котёнка оболтусов Сяо Чжаня и Ван Ибо странным образом миксуются с только что пришедшими кадрами расправы. Хенг ставит на громкую связь, продолжая листать.
— Локация — заброшенный аэропорт на севере. Видимо туда тела привезли, или сначала их выкрали и туда привезли, а потом… чёрт, я же предлагал охрану, но Самир… Как с кровью…не ясно, но да, просто на бетоне. Сначала уложили тела ровным рядом, головы накрыты мешками. Надпись рядом. Я перешлю тебе.
— Иероглифы традиционные или упрощенные?
— Серьёзно?
— Да.
— Традиционные.
Хенг мрачнеет, листая фото в обратную сторону, пока не появляется Орешек. Милейшее создание, кто спорит. Хенг переходит в основные чаты. Медведь пишет, что за ночь они убрали троих. Фото прилагаются. Все — наемные убийцы среднего звена. Никто и не надеялся, что весь их путь до Хунани никто не сможет отследить, но всё же неприятно.
Хенг чуть было не забывает, что звонок всё продолжается. Бессонная ночь даёт о себе знать рассеянностью и торможением. Секретарь не сдерживает усталого выдоха, решается:
— Я не говорил тебе, но Цай три дня назад…
— Знаю.
Хенг умолкает. Кладет телефон на стол. Фэй не звучал ни расстроенным, ни злым. Обычный и ровный тон. Почти что такой же, каким он «кормил» Хенга в их первые встречи в тюрьме. Хенг закусывает щеку, складывая перед собой пальцы в замок.
— За мной кто-то следит? Для тебя?
— Нет. Для меня следят за Цаем.
— Так ты знаешь, что он хотел…
— Я мог бы его убить, если бы пришел. Но я обещал так не делать. Я разберусь с Цаем за пару дней. Сосредоточься на индусах. Оплати похороны, все почести. Вейся ужом, как умеешь. Сделка должна быть нашей.
— Обещал?
— Ты завтракал, Хенг?
Секретарь Ли смотрит на экран телефона. Там все ещё фото котенка. Раздражаясь на себя и ситуацию в целом, Хенг отключает громкую связь и снова прикладывает телефон к уху.
— Нет, не завтракал. Хочешь кошмарить меня завтраками вместо Даники?
— До этого момента нет. Теперь — да. Я начинаю готовить в шесть утра. Подъезжай завтра. Даника всё равно почти не ест. Не люблю, когда еда пропадает.
Хенг не успевает ответить, вызов скидывают. Он медленно отводит телефон от себя, снова кладет на стол. Затем трёт ладонями по лицу, отворачиваясь к окну.
Уже который день в Шанхае солнечно, но от этого почему-то тревожно.
Завтраки в шесть утра.
Хань Фэй — больной извращенец. И это не новость.
Кто тогда Хенг, если через пару минут ставит будильник на четыре утра? Чертов пансион.
Легче жить там, чем добираться каждый раз чёрт знает сколько.
Хенг начинает грузиться. Как именно Хань Фэй собирается разобраться с Цаем за пару дней? Сколько еще наемных убийц паразитами ползут в Моушей?
Сколько еще дней нужно, чтобы добить этого чертового дракона? И как наладить связь с людьми Самира, после этой показательной казни?
Хенг стягивает резинку с кисти, завязывает хвост. Хочется курить. Хочется кофе. И хочется трахаться так, чтобы выбило мозги и всю дурь. Раньше он бы так и сделал, ровно по нотам. Это помогало прояснить разум. Но сейчас он ограничился только тем, что вытащил из ящика стола новую пачку гвоздичных сигарет. Подкурив от подыхающей зажигалки со второго раза, Хенг снова пролистал фото с индусами. Затем вернулся в чаты. Подумав, он набирает сообщение для Даники:
«С завтра приходи на рабочее место к девяти. Господин Хань будет занимать кухню сам с шести утра. Ты все делаешь хорошо, не обращай внимание».
Отправлено. Хенг откидывается на спинку кресла по новой, съезжает пониже и выдыхает дым в потолок. Голова начинает гудеть. Он прикрывает глаза.
Завтраки. Вот же сволочь.
19. 自由降落
XIX.
х х х
Эмоции человека — дар от наших животных предков.
Жестокость — это дар, который люди приобрели сами.
Зло безлико. Оно живет в отражении каждого, пользуется им, прячется за витиеватым слогом напечатанных слов, соскальзывает с языков слюной, впадая в подставленные рты. Зло манит к себе и пахнет сладко. Или свежо. Или кисло. Остро.
Никогда не горько. Горечь нравится редко. Зло обвивает и уводит за собой вереницей сделанных выборов. Мелочь, которая позволяет мелочь чуть больше, словно снежный ком, эти решения нарастают и однажды ты оказываешься на пьедестале.
Подле которого трупы в корке запекшейся крови. У пьедесталов есть такое свойство. Они чаще всего стоят в багряном море.
Никто не принимает решение убивать или спасать со старта. Каждый начинает с чего-то поменьше. Тех, кто восседают на подобных рукотворных сооружениях, различает между собой один вопрос. Помнят ли они своё первое мелкое решение?
Цай Шаушеню снится пламя. Воздух горит и лижет его по пяткам. Цай Шаушеню снится пламя, которое он не в силах одолеть. Сколько бы песка и воды он ни лил, огонь жрёт его дары и не думает угасать. Шаушень знает, что сгорит заживо, он знает, что этот день придёт. Он знает, чьё имя носит это пламя. Было глупостью когда-то пытаться сжечь его собой же, он понимает это сейчас. Но разве мог поступить иначе?
Пламя уже не пугает старика Цая. Смерть подбирается к нему так или иначе, в его силах лишь сделать её приход полным смысла, а не брезгливой жалости. Цай Шаушень, забитый холестериновыми бляшками и изъеденный инсулиновой зависимостью, не хочет издохнуть на своей постели, затвердев жиром, чтобы потом его тело еще долго не могли вынести из дома. Он хочет умереть так, как жил до.
В том времени был смысл. Ирония, он жаждал спокойной и властолюбивой жизни, которую обрел в тот момент, когда дома Хань стали гореть. Когда он наконец выгрыз себе эту жизнь, взвыл от неё пуще прежнего, но уже не мог подать виду.
Никаких склок, один бизнес. Грязный, тлетворный и прибыльный бизнес. Без азарта, чести, вкуса и ценности. Деньги их не имеют, хоть тупоголовое стадо не будет в это верить, потому что так всё должно работать.
Но вот он шанс на достойную смерть. Хань вернулся. Возродился драконом из пепла. Не помер от скуки и сырости тюрьмы, не потерял названого сына, не ушел на покой, сбежав в свои обглоданные горы. Нет, он вернулся, как и жажда жить.
Цай Шаушень поднимает руку. На мандариновом дереве набухла первая почка.
х х х
Деревня Моушей
Стало всё труднее дожидаться возвращения. Дни текли размеренно и смазывались между собой. Порой казалось, что всё это — сплошной сон. Высокое небо, подвязанные к перилам пестрые ленты летучих змеев, сплетенные запахи жареного мяса и цветочного мёда, маслянистый привкус дыма от коптилен, женщины в тонких куртках, мужчины в ханьфу под меховыми опушками, гоняющая мяч детвора и лишь изредка доносящийся из низа деревни рёв автомобилей и мотоциклов.
Всё смешивалось, но не мешало друг другу. Чжань не хотел возвращаться в привычную жизнь, но он ждал возвращения Ибо к себе. С каждым днём тот приходил всё позже. Чжань боролся с усталостью и сном, набрасывал архитектурные и пейзажные скетчи в блокнот, пил «крепкие чаи», читал скаченные в телефон книги или же гулял, общаясь с местными. Их говор чем-то напоминал шанхайский диалект, но через раз в нём прорезалось грубоватое северное звучание.
Чжань часто сидел у входа в дом после заката, словно те старики, бесконечно играющие то в карты, то в маджонг. Чжань не присоединялся, наблюдать ему было интереснее. Скетчи выходили фактурными. Мелькнула мысль даже издать такой альбом. Назвать его «Другой Китай».
Старики разошлись, в домах напротив погас свет. Тот остался лишь в высоком фонаре: вбитая деревянная балка с подвешенными кольцами проводов, коронованная закаленным стеклом оранжевого плафона. Такой оттенок убаюкивал улицу мягким сумраком. Чжань откинулся затылком о деревянный выступ, в наушниках звучал белый шум lo-fi ремикса. Такая музыка давала мыслям течь, не перенимая внимания и не навязывая своего настроения. Чжань всматривался в луну, которая казалась слишком огромной. Округлая и бледная, она была холодна. Скосив взгляд чуть вправо, думая понять, в какие созвездия встали видимые звезды, Чжань зацепился взглядом за очертание знакомой фигуры, она застыла в паре метров от фонарного столба. Секунда, чтобы нацепить очки, оставшиеся висеть в вырезе футболки. Вторая секунда, чтобы всё равно прищуриться. К первой фигуре добавилась ещё одна. Чжань узнает Ибо и Медведя, он подводится, на автомате отряхивая руки. Они должны идти к дому, но почему-то после краткого разговора поворачивают в другую сторону. Чжань не уверен, что поступает верно, но уже обувается и спрыгивает со ступеньки на мощеную камнем улочку деревни. Луна безучастно наблюдает с неба, пока её не затягивает дымкой облаков.
х х х
Будь его воля, он бы больше не носил верхнюю одежду. Хотя бы пока всё не заживет. Кожа напитывалась чернилами, затем их часть выталкивалась вместе с кровью, спина покрывалась сукровицей. За ночь та подсыхала, на утро мастер смазывал её мокрой горячей тряпкой и принимался за дело. Ибо частью себя к боли не то, что привык, он к ней адаптировался. Она уже не казалась острой, перешла в стадию ноющей, оставляя за собой ощущение онемения. Ибо изучал её оттенки и варианты, уже не морщился и даже не сопел. Лишь изредка выдыхал рвано, если игла или острие палочки тебори заденут нерв или проткнут сосуд.
Спал Ибо все эти дни только на животе, стараясь быть как можно ближе к Чжаню, и часто по утру понимая, что забрался на него сверху. Тот не был против. За утренние часы они обсуждали что угодно кроме той реальности, в которую окунулись. Чжань иногда все же нарушал это негласное правило тихим «как ты?», и Ибо неизменно улыбался и мотал головой. Ноющая боль и перспектива не очень ровной чешуйки на хвосте дракона беспокоили его мало.
А вот то, что беспокоило сильно, было трудно сказать вслух.
Он не говорил, что его уже шесть раз держали на мушке, а в одном из сараев копятся трупы наемников. Первый секрет в череде многих? Ибо говорил себе, что скажет об этом, хоть не видит практического смысла (Чжань лишь будет нервничать, так ведь?), но язык все не поворачивался. Сложно вклинить в обсуждение здешней кухни такие новости или прервать монолог-воспоминание Чжаня о детстве фразой «ты не беспокойся, у Медведя все под контролем, но меня тут пытаются всерьез убить из-за одного поехавшего старика, старая история, он, кстати, сжёг почти весь мой клан, как в Наруто, прикинь?». Что-то подсказывало, что Сяо Чжань юмор не оценит.
Поехавших что-то в принципе становилось всё больше.
Весна или теперь так будет всегда?
Но в этот раз кое-что выбилось из общей картины. Суровой, жестокой, но понятной. Цай объявил войну Хань. Вот, что выбивалось: Медведь сказал, что один из наемников целился вовсе не в него. Более того, тому было плевать. Это стало той причиной, по которой Медведь не стал его убивать, а лишь обезвредил и скрутил. Всё же очень важно, чтобы у твоей охраны были не только сила и приказ, но ещё и мозги. Последнее в Медведе Ибо ценил превыше всего.
Он может понять то, что Чжань может быть в списке, но вовсе не приоритетом. Даже если закрыть глаза на то, что он вовсе не человек Хань, а «сопутствующий партнер». Никто его в клан не принимал. Сплетни выражали общую мысль о «игрушке-дружочке младшего Ханя», а это в понимании триад где-то около шлюхи, но с потенциально большим количеством личной информации, разве что. Пока что Ибо устраивала такая репрезентация, ведь тогда никому нет дела.
Но. Держать на прицеле именно Сяо Чжаня? Плевать на людей Хань?
Кто ты, мать твою, и кто тебя нанял?
Этот вопрос крутился в голове, пока они шли по ночным улочкам деревни. Медведь курил, односложно отвечая на уточняющие вопросы Ибо.
— Давили на него?
— Пока нет.
— Говорили брату?
— Я рассудил, что сначала стоит показать тебе.
— Молод?
— Старик.
В голове копились вопросы. А в теле росла ярость. Она пенилась где-то у низа живота, поднимался всё выше и выше, заставляя челюсть сжаться, забыть о ноющей боли вовсе. Прямая спина, хоть все эти дни боль незаметно заставляла горбиться. Твердый шаг, вопреки усталости измученного тела, что еще час назад молило оставить его в покое. Они доходят до загонов, где местные держат скот. Вонь и ленивый рокот свиных рыл. Свернув, они проходят дальше. Медведь бросает:
— Мы проверили теорию с одним… свиньи такое не едят, да и кости эти потом куда. Фильмы врут.
Ван Ибо в первую секунду не понимает, а когда до него доходит, морщится и вскидывает голову, чтобы оценить выражение лица Медведя. Тот смотрит на него в ответ с непроницаемостью цемента. Ибо всё же шепчет:
— Прикалываешься?
Только тогда японец коротко ухмыляется. Вроде и да, а может, черт знает? Ибо выбрасывает эти картинки из головы, есть дела поважнее. Наемников ему никак не жаль, даже если Медведь и его люди правда решили скормить свиньям их останки.
Они поворачивают в последний раз, заходя в узкий проход. Над стальной дверью тускло горит желтая лампа, вокруг нее вьется мелкая мошкара. Медведь проходит вперед, чтобы открыть дверь и зайти первым, проверив обстановку. Ибо кажется, что он слышит шорох, это заставляет обернуться. Узкий проход пуст, вскинув голову, можно заметить мутное очертание луны за тонким ситцем облаков. Ибо задерживает на нём взгляд. Железные петли скрипят, голос Медведя глухой, доносится уже изнутри, говоря Ибо заходить. Тот опускает голову, не дав себе и секунды на сомнение, и входит в заброшенный склад.
Старик не выглядел безумным, но определенно казался больным. Сначала Ибо счёл, что дело в освещении, но нет, — кожа наемника была жёлтой, словно кожура засохшего лимона. Его посадили на низкий табурет, связав руки за спиной. На столе у стены сидело пару человек из охраны, увидев Ибо, они спрыгнули на пол и низко поклонились. К этому бы тоже привыкнуть. Ибо лишь коротко кивнул в ответ и снова стал рассматривать старика. Тот смотрел куда-то перед собой. Белки его глаз тоже отдавали желтизной. Ибо не стал садиться на подтянутый Медведем стул, он присел на корточки перед пленником, заглядывая в лицо теперь снизу вверх. Старик всё смотрел вдаль и явно намеревался хранить молчание. Ибо выпрямился в спине, упираясь ладонями в колени.
— Я так понимаю, старик, ты собрался в последний путь, да? Тебе бы лечиться, а не пушкой махать. Или чем ты там убивать собрался…
Ноль на массу. Ван Ибо изучает черты лица мужчины. Его гордую осанку, выскобленные щеки, дряблую кожу на шее. Ближе к кадыку виден рубец.
Ибо все же встает и садится на край стула. Боль возвращается к спине тягучей волной, Ибо в ответ на это лишь слегка разминает шею. Он понимает, что наблюдает представление, но оценить его по достоинству не может. Да и не хочет.
— Мне сказали, ты пришел не за мной, а за моим человеком. Цай собирается платить и за людей среди обслуги Хань?
Легкая ухмылка на темных губах старика. Первая реакция. Но какая-то не такая. Ибо всматривается в этот рот, хоть губы вновь расслабились и стали одной линией.
Ибо чуть понижает голос:
— Я вижу тебе нравится, что я назвал своего человека обслугой. Но правда всё-таки другая. Так как тебе отсюда не выйти уже, то я поделюсь. Все должны так считать, но на самом деле ради этого человека, хоть он и не Хань, я весь Китай вырежу, если придётся. Все ещё хочется ухмыляться?
Старик переводит взгляд из своего небытия на Ибо и впервые фокусируется на нём. Ухмылка не возвращается, но в глазах старика коротким блеском читается что-то новое. Что-то такое, словно внутри себя он находится в триумфе.
— У внука Цзипина голова варит лучше. Подставлять зад триаде. Это хорошо. Может, его жалкая жизнь лучшее наказание, чем та расплата, которую хотел дать я.
Ван Ибо прищуривается, пытаясь сконцентрироваться на той крохе информации, что выдал этот грязный рот. Внук Цзипина. Дед Сяо Чжаня? Ярость оформилась в гнев, тот плещется у глотки, Ибо всё же усмехается и поправляет:
— С чего ты взял, что зад подставляет он? Да и вряд ли столько оргазмов можно счесть наказанием. Ты пришёл убить его. Почему? Это не Цай приказал тебе?
— Мне никто не приказывает. Но деньги не лишнее. Убил бы его, убил бы тебя.
Ван Ибо кивает с наигранным пониманием. Старик отводит от него взгляд. Ибо слышит гулкий стук, затем скрип. Медведь отходит к другим дверям вместе с парой человек. Ибо решает про себя, что это ветер. Говорили, этой ночью быть буре.
— Ну, старик, убить не вышло. Убьют сегодня тебя. Но сначала я узнаю, в чем дело. Я очень устал, так что если хочешь, чтобы твое тело вошло в мир предков не по частям, и не через пищевод свиней, то…
— Смысла рассказывать тебе нет. Если рассказывать, то ему. Но он всё и так знает.
Перспектива тащить сюда Сяо Чжаня встречает внутреннее сопротивление. Ибо в шаге от того, чтобы просто отдать приказ и свалить. Но вдруг за этим кроется что-то еще? Вдруг этот старик, знающий о Сяо Чжане, вернее, о его семье, куда больше, не один такой? Вдруг кто-то ещё хочет убить его? Ван Ибо смотрит на старика куда тяжелее, чем до этого. Ему никогда не приносило удовольствие представлять насилие, но сейчас…
Ибо коротко кивает, затем протягивает руку и хрипит «пистолет».
Он не смотрит на того, кто вложил кольт ему в руку, Ибо сразу же переводит его к цели. Между дулом и головой старика-без-имени от силы метр.
— Говори. Зачем ты хотел убить Сяо Чжаня?
— Стреляй.
Ван Ибо взводит курок.
— Говори. Я не шучу.
— Стреляй, мальчик.
Ван Ибо смотрит в глаза старика. Гордыня в них цвела, но вместе с ней было и что-то обреченно усталое. Ибо не нравится это «мальчик».
Сяо Чжаню не нравится другое.
В дверь с другой стороны помещения стучат трижды. Затем раздается голос, глухой из-за толщины двери, но четко различимый:
— Откройте.
Медведь переводит взгляд со двери на Ибо. Тот опускает пистолет. Хуже расклада и не придумать, но, как есть. Он кивает японцу, а тот проворачивает ручку двери, дергая ту на себя. В помещение заходит Сяо Чжань. В своей белой рубашке поверх белой майки, потёртых серых джинсах и кроссовках. Ибо впервые действительно осознает, насколько тот чужой его миру. Его мир тусклый, его корни зиждятся вот в таких вот затхлых складах, где людям пробивают головы, а потом спокойно спят.
Каково ему видеть, как медленно сползают с Ибо все маски? Вот он, сидит с пистолетом в руке, никогда не убивая раньше, не собираясь убивать и сейчас, но даже если не он нажмет на спусковой крючок, разве это смоет кровь с его рук?
Но как бы там ни было. Если не он, то его. Если не он, то его людей. Это охота.
Где всегда нужно быть тем, кто несёт смерть, а не тем, кто её зовёт.
Старик оборачивается, на его губах снова появляется ухмылка, но Чжань на того не смотрит. Не смотрит он и на Медведя или других людей. Те неуверенно, но всё же кланяются ему вслед. Никто толком не понимает статус господина архитектора, но раз уж младший господин Хань говорит, что за него и Китай вырежет, поклониться на всякий случай не лишнее.
Сяо Чжань останавливается у Ибо. Тот смотрит снизу вверх. Чжань кажется ему особенно красивым сейчас. Ибо впервые видит, как тот действительно злиться.
Он весь — стальной свет, вот, как это ощущается.
Чжань протягивает руку. Ибо, бездумно, вкладывает в неё пистолет.
А в следующую секунду раздаётся выстрел.
Чжаню не нужно смотреть. До головы старика оставалось не больше метра.
Он вскинул руку в строгом направлении к ней. Затем опустил. Отдача докатилась до локтя, заставляя руку коротко онеметь. Чжань все ещё смотрит на Ибо.
— Не надо вырезать за меня весь Китай. Даже не начинай.
Ибо переводит взгляд на то место, где сидел старик. Выстрел пробил его голову, тело обмякло, но не сползло с насиженного места. Глаза старика широко раскрыты, а на губах всё та же ухмылка. Ибо хочется проснуться. Такое не могло произойти.
Сяо Чжань только что убил. Человек, который просил его сказать ему, если придется лишить кого-то жизни. Человек, который спас котёнка во время дождя и теперь каждый день пытал секретаря Ли о самочувствии питомца.
Человек, который снял его с моста. Человек, который любит дождливую погоду и читать глупые романы. Человек, создающий дома.
Голос Сяо Чжаня возвращает в реальность.
— Его звали Сянжу Хун. Когда-то они с моим дедом планировали взорвать съезд компартии. Заложили взрывчатку. Мой дед был архитектором, Сянжу Хун — инженер-строитель. В последний момент мой дед сдался властям. Из-за этого многих соучастников казнили, а его и Хуна посадили. Дед сидел недолго, он был примерным и вышел в виде демонстрации доброй воли новой власти. Что было с Сянжу Хуном я не знал. Думаю, это он подрезал и тормоза на мотоцикле. Я часто катался с…
— Какого хрена?
Ибо наконец-то вскидывается со стула, оказываясь к Чжаню вплотную.
Тот смотрит спокойно.
— Это то, с чем должен был разобраться я, а не ты.
— Ты только что убил!
— Он бы не успокоился, пока не убил бы меня. Или тебя, а потом меня. Наверное, таким был план. Убить всё то, что мне дорого, потом меня. Сянжу Хун не мог отомстить деду, но мог провернуть то, что хотел сделать с ним. Со мной. А сам он… уже был мертв. Это как эвтаназия, Ибо. У него нет возможности работать после такого срока и истории, он должен был сидеть пожизненно, может, вовсе сбежал…
— Да кто ты, блядь, такой?!
— А ты?
Чжань спрашивает шепотом. Ибо невольно затыкается.
Шепот становится шелестом и продолжается:
— Сидел тут и корчил из себя крутого парня перед стариком. Угрожал, собирался пытать, может быть? Не говорил мне, что происходит. В соседнем помещении гора трупов. Они приходили за тобой, я так понимаю. Так какая между нами разница, Ибо? В количестве убитых? На моем счету только два. У меня это тянется из прошлого семьи, у тебя это тянется из настоящего твоей семьи. Я никогда не дам тебе убить напрямую, если будет возможность, как сейчас. Но в сущности… какая разница? Это тот путь, на который мы встали, добровольно или нет, так вышло.
Мы на нём вместе. Теперь понимаешь?
Ван Ибо не хочет понимать. По правде, его голова сейчас расколется. Он слышит короткие приказы Медведя. Убрать труп к остальным, убраться к черту, встать за дверьми. Ибо слышит, как кряхтя, старика тащат к выходу. Скрипят дверные петли. Чжань опускает взгляд на пистолет в руке, протягивает его Ибо. Тот берёт не его, он сжимает пальцы Чжаня поверх рукояти.
— Обещай мне, что на двух твой счёт закончится.
Чжань смотрит пару секунд. Затем медленно кивает. Ибо чуть качает головой и добавляет: «Обещай вслух». Сяо Чжань расслабляет пальцы, удерживающие кольт, это заставляет Ибо сжать их поверх сильнее, затем сползти ближе к дулу, чтобы забрать пистолет. Чжань говорит спокойно:
— Обещаю, что мой счёт закончен.
— Хорошо.
Ибо отбрасывает кольт куда-то на бетонный пол, словно надоевшую игрушку. Он выходит со склада. Ему нужен воздух, хоть это кажется глупостью. Того всегда полно.
х х х
Полотно облаков поверх луны уплотнилось. Сяо Чжань сидел на низкой скамье у главной коптильни, наблюдая, как в свете фонарей, Ибо стоит у перил. За ними — обрыв и долина, полная холмов и пик, тщетно стремящихся быть выше окружающих их скал. Наверное, надо было что-то чувствовать и это что-то не должно было быть облегчением. Странно. Ведь всё же оказалось, почти наверняка, что он виноват в смерти Джеймса. Его семья или просто его дед. Какая разница. Он убил старика. Или он окончил его мучения?
Но в чем он был бы виноват и был бы ли вообще, если бы Сяо Цзипин пошел до конца? Что его остановило?
За свою жизнь Чжань пытался докопаться до правды множество раз, и может, он убил свой последний шанс на это.
Но стоя там, за дверью, осознавая, что он мог потерять Ибо, или что тот сейчас из-за него пойдет на страшный шаг… Сяо Чжань не думал долго. Он сделал то, что должен был. Взял ответственность и защитил.
Хотелось думать, дедушка руководствовался чем-то похожим.
Теперь не узнать. Только отпустить.
К скамье подходит Медведь, чуть помедлив, он всё же садится рядом. Затем протягивает Чжаню вскрытую пачку сигарет. Отказаться как-то не выходит. Чжань вытягивает одну, кивая в знак благодарности. Японец щелкает зажигалкой. Закуривает и сам. Сизый дым вьется выше их, затем рассеивается. Ибо замер в одной точке, упершись руками в перила. Чжань хотел бы узнать его мысли сейчас, какими бы те ни были.
— Я сказал людям молчать, но слухи все равно пойдут. Этим жестом ты, архитектор, повысил свой рейтинг.
Сяо Чжань тихо хмыкает. Жестом . Он замечает вполсилы: «Это самое длинное предложение, которое я слышал от тебя на китайском и слышал вообще». Медведь не отрицает, затягивается, расставляя ноги шире. Коротко сплевывает, затем выпрямляется, затягиваясь опять. Сон по три часа, слишком много работы в рукопашную за последние пару суток. Но ничего.
— Влюбленность идеализирует.
Чжань вопросительно мычит, поворачиваясь к японцу. Тот не смотрит в ответ, продолжая мысль:
— Юный мастер никогда не смог подумать, что ты бы мог убить. Но ты можешь. Каждый может при определенных обстоятельствах. Они важны.
— Наверное.
— Ты его любишь. Держись за это. Он тоже полюбит. И то, что ты можешь убить. Оценит. Поймёт.
Сяо Чжань чуть ведёт плечом. Он не уверен, что правда понимает то, что говорит ему Медведь, но чему-то внутри него становится спокойнее. Японец докуривает до половины, затем втирает сигарету в подошву своего ботинка. Оставляет окурок в пальцах.
— Докуривай, архитектор. И иди к нему.
Сяо Чжань делает последнюю тягу, протягивает недокуренное Медведю.
Выдохнув дым, он поднимается. Идти к Ибо сейчас страшно, но ещё страшнее остаться. Ты его любишь. Держись за это.
Только это у него и есть.

Поcтеры к
«В небе распускаются звёзды».
月满则亏,水满则溢。没有什么能长盛不衰。
Луна, прибыв, убывает; вода, заполнив емкость, перельется через край.